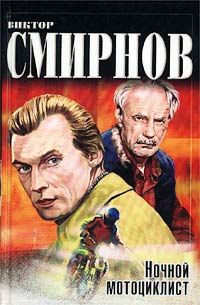Виктор Смирнов - Лето волков
– Выходь, сволочь! – крикнул Штебленок неожиданно осипшим голосом.
В ответ кто-то рассмеялся в самой сторожке. Издеваясь и подражая блеянию овцы. Штебленок выстрелил в прогнившую стенку, сложенную из тонких жердей. Полетела труха.
Человек с басовитым голосом рассмеялся где-то рядом, должно быть, стоя за дубовым стволом. Штебленок понял, что играют не из баловства и что живым его не отпустят. Он стал заходить за дуб.
– И нашо ты сюды приехав, – сказал бас из-за другого дуба. – Сидел бы дома.
– А он с погорелого села, ему жить нема где, – прошелестело из сторожки.
В подросте рассмеялись. Сколько их? Человек пять? Напоминание о сгоревшем селе вышибло из Штебленка остатки страха.
– Выходь! – крикнул он звонко и ясно. – Выходь, покажись!
– Та пожалуста! – подрост зашелестел.
Штебленок не успел прицелиться: сверху, из засидки, на него упал кто-то, по-звериному верткий и хищный. Он обхватил тощую шею ястребка и опрокинул его на землю. Карабин отлетел в сторону.
И тут же, выскочив из сторожки, из-за деревьев, на Штебленка навалились трое.
В ольховом подросте приподнялся тот, у кого был тонкий подростковый голосок. Но не подросток. Выпуклую крепкую спину обтягивал китель, перехваченный портупеей. Погон или петличек на человеке не было. Половина лица была изуродована ожогом, бугорчатая кожа оттягивала глаз книзу.
Автомат висел на боку, а в руке человек держал моток черного шнура. Со Штебленка уже стащили сапоги и заткнули рот портянкой. Ястребок был распят на земле и не мог ни сказать что-либо, ни пошевелиться.
– Держи, Брунька! – крикнул человек подростковым голосом и метнул моток шнура тому, кто бросился на Штебленка сверху. – Телегу давай!
Брунька, сунув пальцы в рот, свистнул. В лесу затрещало, но еще раньше к сторожке выбежал крупный, непонятной масти пес с веревочным ошейником, с которого свисал, как поводок, конец этой веревки.
…Меж деревьев, ломая кусты, обдирая кору на стволах, пробился целый стог сена, прижатый жердью и спеленатый привязанными к телеге веревками. Наверху, утонув в стогу, держал вожжи ездовой: судя по свесившемуся сапогу, мужик крупный и увесистый. Лошадь, сельская трудяга, напрягая жилы, тащила стог вместе с возницей. Хлопья пены текли по бурой шерсти.
Стог замер у дуба. Брунька, схватившись за веревку, мигом влез на стог. Перебросил шнур через сук. Коренастый парень с басовитым голосом схватил спущенный конец и быстро, со знанием дела, завязал петлю.
– Готово!
Трое подняли ястребка словно сноп. Штебленок изгибался, пытался вырваться, но руки и ноги были связаны.
Командир с обожженной щекой стоял, расставив ноги, и наблюдал за происходящим, словно инструктор, проверяющий выучку подчиненных.
Телега отъехала. Штебленок повис в воздухе. Он хрипел. Басовитый и его дружки, державшие другой конец черного шнура, опустили ястребка. Босые ноги коснулись земли, хрип прекратился.
– Трошки повыше! – приказал обожженный.
Ступни Штебленка повисли у самой земли.
– Закрепляй!
Пальцы ног пытались нащупать землю. Дотрагивались до нее, но тут же какая-то пружинящая сила приподнимала их на полвершка.
– Вира, майна! – засмеялся сверху, со стога, Брунька. – Добре?
– Добре!
Ноги дергались в воздухе. Пытались коснуться твердой основы. Один раз даже коснулись. Но снова оторвались, ушли вверх. Словно кто-то играл ястребком, как шариком на резинке.
Понемногу движения становятся все слабее.
Несколько человек молча, одни на вершине стога, другие внизу, наблюдали за странным танцем повешенного.
18
Иван прислушался, его насторожил далекий посвист позади, там, где он недавно прошел. Но нет, опять тихо. Может, какой-то деревенский охотник подзывал собаку, ведь кобелек с веревкой на шее не случайно бегал. Пропел одинокий дрозд. Лето шло на спад, и птицы давно прекратили концерты.
Лейтенант зашагал дальше. Лицо стало потным, комары удвоили атаки. Лес становится светлее, тропа выбежала на дорогу и слилась с нею. С Малой поляны, куда обычно гоняли стадо из Глухаров, донеслось мычание, потом замысловатая ругань пастуха: как известно, все пастухи считают, что коровы понимают только матерный язык.
Иван выбросил уже поблекшую гераньку и вытер пилоткой лицо, потом, пилоткой же, обмахнул пыльные сапоги. Пригладил волосы и, выбив о ладонь, водрузил головной убор на место, чуть набекрень. Ладонью провел по лицу, наводя на него выражение строгое и сдержанное.
Послышались голоса. У телеги, заполненной ящиками с укутанной в солому глиняной посудой, спорили трое. На телеге сидел бухгалтер Яцко, человек маленький, с виду тихий, но вредного характера. Сельских пацанов хлестал хворостиной, на вопрос «за что» отвечал: «профилактически». Рядом с Яцко были мрачноватого вида председатель колхоза Глумский и хитроглазый сорокалетний сторож Попеленко, который пилотку-«румынку» нахлобучил, как каску. До войны Попеленко вечно служил в сторожах, в колхозных бумагах именовался «легкотрудником» по причине килы.
На дороге, в пяти шагах от телеги, стояла председательская бричка. Из нее торчали стволы двух карабинов.
– Отдавай, – требовал Попеленко. – Люди видели.
– Я сказал: нема. У бухгалтера слово як гербова печать.
– Слушай, Василь Сафоныч, ты зараз экспедитор, – внушал Глумский. – В прошлый раз пятнадцать про́центов битого по́суду…
– Ну, трошки выпил…
– Трошки? – возмутился Попеленко. – Четверть[1] люди видели. Взяв бы штофчик!
– Яка четверть? Товарищ председатель! При вас ложное обвинение!
Попеленко и Глумский поднырнули под телегу, отыскивая четвертную бутыль. И увидели офицерские сапоги. Они переглянулись и высунулись поверх ящиков. Иван предстал во всем командирском блеске.
– О господи! Весь в орденах, як с иконы. – Попеленко всмотрелся. – А шоб я вмер! То ж Иван Капелюх!
Лейтенант не любил, когда вспоминали его фамилию. Капелюх на украинском, который входил составной частью в язык глухарчан, означал «шляпа». Раз уж он никогда не видел отца и ничего не знал о нем, мать могла дать ему фамилию получше. Но сейчас Иван обрадовался соседу как родному.
– Ну, ты дивись! – грузный Попеленко обнял лейтенанта и дружескими ударами ладони принялся выбивать гимнастерку на спине. – Орел! А такий был пацанчик квеленький, як ципля недосиженное. Ты подивись на него, Петро Харитоныч! – обратился он к председателю.
– Ну як в кино, – ехидно произнес Яцко. – Возвращение героя!
Пока все были увлечены встречей, он тронул лошадь и скрылся в лесу со своими ящиками.
Коренастый, приземистый и крепкий, как дубовый чурбачок, Глумский протянул увесистую ладонь. Улыбка его была вымученная и тут же растаяла.
– Ну, Иван, везучий ты! – сказал Глумский. – Три года воюешь, и целый…
Попеленко поспешил разъяснить:
– То ничо́го, то у Харитоныча от карахтеру. Война… А так человек добрейшей души. От скажи ему: Харитоныч, выпиши мне мешок кукурудзы – выпишет без разговору!
– Не закидывай удочку, Попеленко, – сказал председатель. – Не выпишу!
Иван Глумского знал плохо. Председателем он стал перед войной, а до того работал директором стеклозавода в Гуте и, говорили, «отбывал срок». После Гуты, с ее средней школой и техникумом, Глухары считались ссылкой.
Сели в бричку. Попеленко снова протянул Ивану руку:
– Надо ж это… представиться!
– Ты ж только что здоровался! – рассмеялся Иван.
– То здоровался, а то представиться. Разная позиция. Я теперь являюсь боец истребительного батальону. А Харитоныч голова колхозу, добровольно оказывает… – Попеленко смолк под ироническим взглядом председателя.
Иван удивился:
– Что тут, кругом ястребки? Тут один у меня среди леса документы проверял… Щебленок, что ль…
– Штебленок? А мы шукаем: куды делся? – сказал Попеленко. – Значит, в райцентр подался, наскучило тут. Хочь бы сказал. А то ж переживаем!
Глумский дернул вожжи.
19
Сельского дурня Гната встретили на опушке. В старом ватнике, с треухом на лохмах, с пустым мешком, он загребал дырявыми сапогами песок.
– Здорово, Гнат! – крикнул Иван. – Все поешь?
– Чего дурню сделается? – сказал Попеленко. – На земле без забот, а там сразу в рай.
Гнат улыбнулся, снял шапку. Невнятно пропел одну из своих песен:
– Ой, вернувся козаченько до дому родного, ой,
Шо ж нихто зустричае, шо ж нема никого, ой!
Он загегекал. Долго пятился и кланялся вслед. Споткнулся, упал и снова стал кланяться. Гнат был частью Глухаров. Никто не знал, сколько ему лет, кто его родня. Казалось, он родился вместе с селом, с ним и кончится.
20
Бухгалтер Яцко остановил лошадь. Огляделся, достал из ящиков новенький глечик, литра на полтора. Вытащил за веревочку деревянную пробку. Налил. Выпил. Еще налил. Вскоре ехал, завалившись меж ящиками.
Навстречу двигался стог сена, под которым утонула телега. Лошадь бурой масти, напрягаясь, роняла хлопья пены на дорогу. Наверху, рядом с прижимной жердью, лежал некто, судя по сапогу, крупный. Стог задел ящики, на лицо бухгалтера посыпалось сено. Яцко пробормотал, отплевываясь: