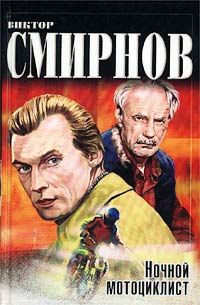Виктор Смирнов - Лето волков
Навстречу двигался стог сена, под которым утонула телега. Лошадь бурой масти, напрягаясь, роняла хлопья пены на дорогу. Наверху, рядом с прижимной жердью, лежал некто, судя по сапогу, крупный. Стог задел ящики, на лицо бухгалтера посыпалось сено. Яцко пробормотал, отплевываясь:
– Ну, дощ с тучи – то ладно, а с чего сено?
21
При въезде в село, у крайней хаты-развалюхи, неподвижно сидел седой, бумажной белизны старец. Взгляд задернутых бельмами глаз тоже был неподвижен. И старец, и покосившаяся скамейка, и подсохшие деревья в саду, и хата, казалось, существовали спокон веку. Приход и уход немцев были для Рамони незначительным моментом жизни. Говорили, он воевал в Русско-турецкую, под Плевной. Видывал кайзеровских немцев, польских легионеров и еще дюжину властей, которые сменялись часто, словно играли в чехарду.
– Рамоня, – Иван произнес имя тихо, будто опасался разбудить старца. – Живой!
– Та он невмирущий, – сказал Попеленко. – Нас переживет.
Ухо Рамони, поросшее диким волосом, подалось к голосам. Услышал.
22
– Ой, боже ж мой, онука Ванятко, кровинка ро́дная! – Бабка Серафима то смеялась, то плакала, то прижималась к внуку, то отстранялась, чтобы рассмотреть. – Бачите? – это предназначалось односельчанам. – Орденов-то скоко, больше, чем титек у малясовой сучки! После ранению! Ничо́го! У нас молоко як живая вода, а вода як молоко. А сало! Помажь покойника по губам, сразу танцювать пойдет.
Босоногая детвора просочилась во двор. Некоторые висели на плетне, грозя завалить его. Попеленковский выводок взбирался на тополь, старший, Васька, уже сидел выше других.
Немолодые глухарчане наблюдали серьезно: чета Малясов, Тарасовна, Мокеевна, Кривендиха. Примчалась, щебеча и галдя, стайка девчат.
– Господи, то шо, Ванька Капелюх? – спрашивала себя Малашка и себе же отвечала: – Точно, он, задави его кобыла! Ну ты диви!
– Хлопчик был. А зараз… И на физиономию живописный, – делилась мнением долговязая Орина.
– Та ну, – у невозмутимой Софы скорлупа семечек вечно украшала губу.
– При часах, – заметила Галка.
Девчата хихикали, стараясь привлечь внимание Ивана. Красотка Варюся посмотрела из-за их спин и лишь прищурилась.
– В офицеры вышел, – говорил Маляс. – В городу учился… Не простой!
– Скажешь! – отозвалась Кривендиха. – Чого не простой? Мой Валерка его прутом стегал: яблуки с саду таскал. Фулиганил.
– То видения детства. А зараз офицер! Штатно-должносной оклад!
Взгляд Ивана пробежал по лицам. Варюся смотрела прямо и дерзко, с усмешкой. Лейтенант на секунду задержался на этой усмешке. Взгляд побежал дальше. Той, кого хотел увидеть, явно не было.
Попеленко, оставив председателя, появился в нужный момент:
– Оно, конечно, семейная приятность! Но, як подумать, политический момент! Офицер с фронту! Положено собрать, послушать подвиги, отметить…
– Отметим! – сказал Иван многозначительно.
23
Он сноровисто выгреб из печи угли, насыпал в зев чугунного утюга. Раздул жар, помахивая утюгом. Посмотрел в окно. Тоси не было видно. Лишь девчата все еще стояли у тына, обмениваясь шутками. Они то и дело обращались к Варе, которая продолжала загадочно улыбаться и, как старшая, отвечала односложно. А Тося… наверно, застеснялась, теперь ждет его.
…Серафима наслаждалась ролью любимой бабуси. Набросив на плечо отрез кремового файдешина, она крутилась перед тусклым, в пятнах, зеркалом:
– От материя! Файдешин! До чего ж ты до бабуси уважительный, Ваня!
Она притоптывала, заставляя материю развеваться:
Чий, чий каравай выше, чие дзицятко краше?
Наш, наш каравай выше, наше дзицятко краше!
Иван плюнул на палец, ткнул в отполированное днище утюга. Зашипело. Бросив на стол одеяло, разложил парадную гимнастерку. Прыснул водой. Еще раз посмотрел в окно. Варя все еще улыбалась, словно ждала чего-то.
24
На улице показалась мокрая, замученная лошадь, тащившая телегу со стогом сена. Со стога свисал огромный сапог возницы. Изредка крупная рука подергивала вожжи, заставляя кобылу двигаться. Проезд стога Ивана не интересовал. Тося среди девчат так и не появилась.
Варя бросила взгляд на копешку сена, на сапог. Улыбка исчезла.
– Варька, тебе сено привезли, – сказала Орина.
– Ой, – сказала красотка и пошла следом за телегой.
– Везучая Варька! – вздохнула Малашка. – Ей все привозят, Мокевна хозяйство держит…
– То ж Варюська, – заметила Галка. – Нам до нее не доплюнуть.
– Та ну, – Софа справлялась сразу с горстью семечек.
…Стог сена остановился у хаты Вари, выделяющейся размерами, широтой окон и белизной. Мокеевна принялась открывать створы ворот.
– Шо ты там, заснул? – крикнула Варя.
Ездовой зевнул и повернулся на бок. Сапог свесился еще ниже. За голенищем у ездового торчали рукояти двух крупных ножей. Они чуть выступили за край кожи, блеснула отточенная и отполированная сталь.
– Слезай, лодырь! – буркнула Мокеевна.
Когда лейтенант в очередной раз глянул в окно, улица опустела. Ветерок ворошил клок сена, оставшийся после проезда телеги.
25
Курица трепетала в руках бабки. Из чурбана, как из плахи, торчал кухонный нож. По улице проходил Попеленко, свертывая козью ножку.
– Шо-то ты, Попеленко, ходишь пеши! – сказала Серафима.
– Обстоятельства жизни, – философски ответил ястребок. – Раздумываю.
– Ну так иди, зарежь курицу!
– Не, я не любитель такого дела!
– А чего любитель? Шестех детей настрогал…
– То нечайно! – ястребок выбил, наконец, искры из своей «катюши»[2].
Окутанный дымком первой затяжки, он отправился дальше, напомнив Серафиме, что торжественную встречу фронтовика откладывать «политически неправильно».
Вышел Иван. На гимнастерке – ни складочки. Подворотничок показывал белоснежный краешек. Закатное солнце сияло в пуговицах и медалях.
– Ты шо, на парад? – спросила бабка. – Не ходил бы к ним.
– К кому?
– А то я не знаю. И эти… с груди… сними: блестят! Сдалека видно!
– Да что вы все «сними, сними»! Тут снайперов нет!
Серафима вздохнула, посмотрела вслед. Пожаловалась курице, которую уже прижимала к груди, что молодежь распустилась.
26
Рослые мальвы с тяжелыми темно-бордовыми цветами прикрывали окна бревенчатой, давно не беленной хаты-пятистенки. На коньке крыши покачивался наклонившийся флюгер-петух. Иван отдал ему честь. Удивился побитой дождями побелке. Очевидно, привык видеть хату в ином виде. На скрип калитки никто не вышел, но занавеска в окне дернулась.
Иван, громко обив ноги, откашлялся и хотел было взяться за щеколду, как дверь открылась. На пороге стоял гончар Семеренков.
– Ой, Иван! Надо же! Какой стал… С приездом! Три года, а? Ой, боже…
Семеренков ответил на дружеское объятие, но пальцы его были врастопырку, как будто он не смел панибратствовать с этим новым Иваном, офицером. При этом он полегоньку выталкивал гостя с крыльца на улицу. Если бы Иван присмотрелся, то в окне, над занавеской, заметил бы девичье лицо и глаза, полные радости и, одновременно, испуга.
– Подрос, ты смотри, подрос! Ишь ты, и на фронте растут…
– Кто живой, тот растет, – ответил Иван. – Идемте в хату, Денис Панкратович!
– И, гляди, ранили, – гончар смотрел на ленточки поверх наград. – Два раза тяжело, – вздохнул он. – Ты ж совсем хлопчиком пошел, от беда!
– За три года это нормально. Пойдемте!
– И все три года на фронте? – Семеренков спустился на ступеньку и тем самым заставил лейтенанта отступить.
– Если б все три, не стоял бы здесь. Ускоренные лейтенантские, госпиталя, в штабе на поправке. Идемте!
– Да, дела! Кто б мог сказать, а? На каникулы приезжал, школьник…
– Да обо всем наговоримся! Что мы тут стоим, Денис Панкратович?
Обхватив Семеренкова за плечи, лейтенант попытался ввести его в сени. Гончар как будто упирался:
– Такое дело, Ваня… На гончарню бежим, заступать на вторую смену.
– Ну, со Станиславой Казимировной поздороваюсь. С Ниной… С Тосей!
– Такое дело, – помялся Семеренков. – Три года… Немцы… Тут такое…
Лицо Ивана изменилось. Он ждал продолжения.
– Станислава Казимировна умерла… Нина уехала…
Иван, качая головой, издал стон сочувствия и горя. Но тут же спросил:
– А… Тося?
– Тося тоже… на вторую смену.
Лейтенант выдохнул воздух, лицо разгладилось. Он обхватил хозяина за плечи и заставил гончара попятиться в сени и дальше. Глаза в окне исчезли.
Первая половина пятистенки была для деревенской хаты просторна, полки заполняли глечики, барильца, куманцы разной формы и раскраски, глиняное зверье с глазастыми, очеловеченными ликами. Посреди стоял стол, накрытый расшитой скатертью. И стулья, не лавки: гончар когда-то привез мебель из города. На одном из стульев сидела кошка. Глазастая, но настоящая.