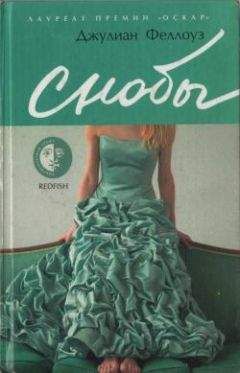Александр Ольбик - Дикие пчелы на солнечном берегу
Дед наклонился к лаптям и поправил онучи. И Карданов словно впервые увидел его руки — изуродованные, раскатанные вечной работой. Костяшки больших пальцев корявыми загогулинами выпирали на сторону.
— Да надоело об одном и том же лясы точить, — продолжал Александр Федорович. — Ты мне все равно не поможешь, а подбивать к согласию не надо…
Лука помолчал, обдумывая слова Керена, а обдумав, сказал:
— Значит, по-твоему выходит так: все — в колхоз, а тебе одному — воля вольная? Исключение сделать из правила? А зачем же тогда мы делали революцию? Кто я, например, до нее был? Находился в услужении у своей тетки. Мать рано померла, отца…
— Небось, к стенке поставили?
— Нет, отец в империалистическую погиб. — Карданов вертухнулся со спины на бок и подперся локтем. — Тетка, стерва, понукала мной, как могла…
Александр Федорович, справившись наконец с занозой, рассеянно поглядывал на своего подельника. У деда брови лохматые, изгибистые, и где-то под ними поблескивают искорки несогласия. Он вроде бы и слушает Карданова, и в то же время, что опять же было заметно по его глазам, думал какую-то далекую свою думу.
— Сколько ж тебе тада было годов? — вяло поинтересовался Александр Федорович. К его плечу плотно прильнул Ромка и настороженным взглядом следил за Кардановым.
— Не то десять, не то одиннадцать… Я этим чего хочу сказать? Лично мне советская власть дала многое: свободу от теткиной тирании, хорошую работу, твердый заработок и главное-людской почет и уважение.
— Если не секрет, кем же ты служил, Лексеич?
— Как это — кем? Разве тебе Ольга не говорила? Милиционером… Старшина. Мой пост находился возле самого Аничкова моста. А сразу после революции служил в частях особого назначения, на Брянщине вылавливал всякую шушеру…
— Значит, ты из энкэвэдешников? — дед смотрел куда-то поверх головы беженца, и в черных его глазах натягивалась багровая пелена.
— Выходит, что так, — бойко, вроде бы даже с некоторым вызовом поддакнул Карданов. — Веселая была служба. Не соскучишься, кругом люди, люди… И ты при них не последний человек. Правда, попадались и прохвосты. Как-то один такой подходит ко мне, сам в тюбетейке, с фиксой во рту…
— Ну раз ты, Лука, какой-никакой представитель власти, отвечу на твой вопрос: обидела ли меня советская власть? Мы тут с тобой одне, свидетелей нет, а этот, — Александр Федорович указал глазами на сидевшего у плеча Романа, — не в счет… Скажи, почему, када началась коллективизация, всех под одну гребенку погнали в колхоз?
— Как это почему? — удивился Карданов. — Все стало общим и земля тоже… Ну и труд, разумеется, стал общим. Крестьянскую рабсилу передали земле…
И тут Керен вспылил.
— Не-е-ет, врешь! Шельмуешь, борода! Земля по ленинскому декрету перешла к крестьянам, а не наоборот — не крестьяне к земле. Но именно такую линию тада и загнули… А зачем надо было туда вести насильно, под руки да еще под дулом нагана? Какой же из меня работник, коли в душу мне уперся винтарь? Меня, середняка, со всем моим барахлом погнали на поселок… А за чем? Мне хорошо было и на хуторе. И многим другим, таким, как я, тоже хорошо было без колхоза. Там же все всеобщее, а значит — ничье. Плуги с ломатыми лемехами, молотилки без шестерен, кони без упряжи. Словом, ни усов, ни бороды, ни сохи, ни бороны…
От волнения на шее у деда набухли, закрутились две жилы, точно два обрезка вожжин.
Он продолжал:
— Со мной сидел один мозговитый мужик, так он говорил, что Ленин никогда не думал о насильных колхозах, хотя сам был мужик крутой… Я не умею читать — это да. Но на память свою не жалуюсь, и помню еще с Питера слова твово Ленина. Он же прямо заявил: советская власть, мол, должна строить свою экономику — слушай внимательно: должна строить свою экономику применительно к хозяйству середняка… Значит, он имел себе на уме таких крестьян, как я? Я ж чистый середняк, и таких в России была тьма. Но кому-то позарез потребовалось слово «середняк» поменять на слово «кулак». Хотя, правда, и кулаки были… Но была и рвань подзаборная — дали и ей землю, а она репьем заросла… Не-е-е, что ни говори, а колхозы — дело должно быть добровольное. Доб-ро-воль-ное, — повторил Александр Федорович. — А кому-то перец в зад сунули — мол, давай, давай, скорей, скорей сгоняй всех в коммуну…
— Да пойми ты, Федорович, — Карданов приподнялся и сел. Вроде бы беззаботный поначалу тон в его голосе поубавился, — пойми, седая твоя голова, такая революция — дело в истории человечества новое, никто толком не знал всех дорожек, по которым следует идти. То ли влево, то ли вправо — хрен его знает… Вот и пошли прямо…
— Вот тут я с тобой на все сто согласен, — Керен принял рассудительный тон. — Дело действительно по всем статьям новое и не всем ясное… Так именно потому, что оно новое и заковыристое, и надо было посоветоваться с тымя людями, которые дело это хорошо знают…
— С кем это, интересно?
— Что касается землицы, тут надо было посоветоваться с крестьянами.
— С этим несознательным элементом?
Дед опять завелся.
— А чей вы в Питере жрали хлеб до революции и апосля, если не этого несознательного елемента? Елемент, можа, и взабыль не ахти какой сознательный, но зато знающий, как да када пахать, када сеять да убирать, чем кормить скотину. А так не мужики на своей земле стали начальниками, а какие-то щелкоперы из района с блестящими портфелями. Они, что ли, должны были меня учить? Так, по-твоему?
— Ты меня, Керен, на боженьку не прихватывай, — тряхнул головой беженец. Зло тряхнул. — Советская власть и частная собственность — понятия несовместимые! Мы за справедливость проливали кровь, за нее, родную, валялись в тифозных бараках, а ты о каком-то возврате толкуешь.
— А совместима ли твоя власть с голодом? — вопрошал дед. — Я знаю, совместима… Ишо десять лет назад половина твоих колхозов ела кашу из топорища, а другая половина намыливалась в города, а мы, слава те господи, — Александр Федорович как-то истуканисто перекрестился, — выжили и не побирались. Другим ишо помогали…
У Карданова уже никакого терпежа нет, и он перебивает Керена.
— Что ж, по-твоему, поворачивай оглобли назад? Давай вернем всю землю кулакам-кровопийцам, и пусть они из обрезов режут нам в животы. — Лука судорожным движением рук расстегнул рубаху и открыл грудь. В нижней ее части белел стручковатый шрам. — Любуйся, что они мне заделали на продразверстке! Хорошо, что пуля не задела печенку, хана была бы…
— А за что оне тебя так? Не за то ли, что ты им что-то давал, а оне брать не хотели? Видь отнимал… Вот если б давал… Я знаю, Ленин на вас, питерских, в продразверстку сильно рассчитывал. Один такой, как ты, переваживал тада двести таких, как я… А рази каждый, кто был подключен к продразверстке, родился от честной матки? Человек с ружьем, шныряющий по сусекам, частенько забывал, кто и зачем его в деревню посылал. Вот откуда пошли кулаки — от оправдания беззакония… Ладно, в то время неколь было растить хлеб, надо было бегом делать революцию, а потом — гражданку. Тут бери, что близко положено. Но потом? Когда уже приступили к этой коллективизации, тогда-то зачем было егозить? Рази нельзя было по-умному все сделать?
— Эх, ты какой мудрый, Керен! И на елку хочешь залезть, и задницу не ободрать… Тогда о половине речь не шла — или мы их, или они нас.
Дед спорить устал, на лицо легли сероватые краски. Однако внутри у него все еще мощно полыхал вулкав противоречий и против него он и сам был бессилен. Александр Федорович вновь заговорил внятно и быстро.
— А вот ваш Ленин, на которого вы все молитесь, смикитил по-другому: чтобы спасти советскую власть, завел неп. Потому что видел и знал — у каждого человека своя рубаха ближе к телу. На том он и играл. Я сам по дурости тоже подался было в Питер, навострившись открыть там хомутную мастерскую… Да напоролся на отпетое жулье. Обчистили меня, как липку… А все потому впросак попал, что захотел не своим делом заниматься. Вернулся в деревню, а тут уже свое фулиганье — уже пошла-поехала коллективизация.
Умолк дед. И Карданов, каким-то боком заинтересованный его словами; тоже помалкивал. Но все же не вытерпел и неопределенным «вот же жестянка» подбил Керена к дальнейшему разговору.
— Нет, надо было обязательно робить добровольный колхоз и добровольное единоличничество, — убежденно сказал Александр Федорович. — Хочешь на поселок — гребись туды, хошь жить на хуторе — сиди себе на хуторе. Моя же единоличная корова давала молока за пять колхозных, а если б я их имел пяток… Оне у меня были бы сыты и спали бы на сухой соломе, а не в навозе купались… А рази я стал бы спорить, если бы мне предложили: дадим, мол, тебе, Петухов, коня, даже двух меринов, несколько коровенок, пять-шесть десятин земли, но ты нам за это осенью сдашь три телка, столькото литров молока, столько-то мер ржи… Ну, словом, всего, что полагается. И при этом ты, Петухов, не будешь по ночам окашивать в лядах неудобья и бояться, что за это тебя вспоймают и поставят на лбу клеймо — «кулак». Потом, можа, я пригляделся бы к добровольному колхозу и, кто знает, Лексеич, не надоело бы мне одному надрывать грыжу и не перебежал бы я со временем в это самое твое коллективное хозяйство. Вполне могло такое случиться. А так меня взяли за холку — иди в стадо… А я ж не коза Настя — поводок на шею не накинешь. Я тебе честно скажу: если бы в то голодное время я не был единоличником, моя семья могла бы сильно поредеть. А так мои Колька с Петькой выросли и ноне где-то на фронте немцу салазки загибают. Между прочим, за твою советскую власть воюют…