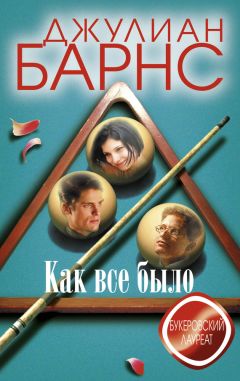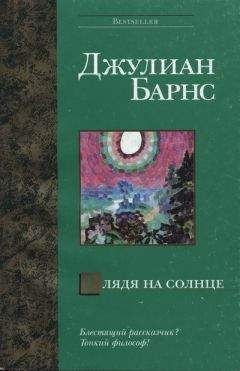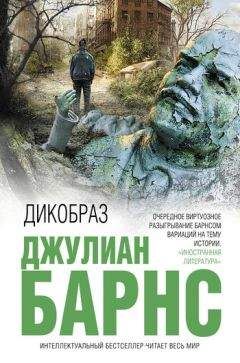Джулиан Барнс - Попугай Флобера

Обзор книги Джулиан Барнс - Попугай Флобера
Джулиан Барнс
Попугай Флобера
Посвящается Пэт
Когда пишешь биографию друга, ты должен написать ее так, словно хочешь отомстить за него.
Флобер, Письмо Эрнесту Фейдо, 18721. ПОПУГАЙ ФЛОБЕРА
Шестеро североафриканцев у памятника Флоберу играли в шары. Звонкий металлический стук шаров был отчетливо слышен на фоне шума запруженной транспортом улицы. Пальцы смуглой руки игрока насмешливо ласково послали вперед серебристый шар. Тяжело подпрыгивая, шар медленно прокладывал кривую борозду в затвердевшей пыли аллеи. Игрок, бросив шар, на мгновение застывал в заученной изящной позе, похожий на изваяние: колени чуть согнуты, правая рука выброшена вперед ладонью вверх в победном экстазе броска. В памяти остается закатанный рукав белой рубахи, обнаженная до локтя смуглая рука и темное пятно на тыльной стороне запястья. Это не часы, как поначалу показалось мне, и не татуировка, а скорее всего переводная картинка: нечто вроде портрета кого-то из современных пророков и мудрецов, столь почитаемых сынами пустыни.
Однако вернусь к памятнику, к этому лишенному красоты и изящества изваянию со следами слез медной окиси на лице, с небрежно повязанным галстуком, в мешковатом сюртуке и мятых брюках, с торчащими усами, настороженному, необщительному и обреченному на одиночество. Флобер не ответит вам на ваш взгляд, ибо взор его устремлен куда-то вдаль, на юг от площади Де Карм, в сторону собора, поверх крыш города, который он презирал и который отвечал ему немалым равнодушием. Голова статуи уходила далеко ввысь, и только голубям было дано созерцать размеры обширной лысины писателя.
Этот памятник не был первым памятником Флоберу в Руане. Тот в 1941 году был снят с пьедестала немцами и вместе с городскими оградами и медными дверными молотками отправлен на переплавку и дальнейшее изготовление, возможно, медных кокард. Пьедестал памятника в городе Руане пустовал целое десятилетие или около того. А потом мэр Руана, большой ценитель памятников, раздобыл где-то гипсовую форму оригинала, принадлежавшую русскому, Леопольду Бернстамму, и город согласился вновь Гюставить у себя памятник Флоберу. Таким образом, Руан снова стал обладателем подлинной копии статуи писателя, отлитой из почти чистой девяностотрехпроцентной меди с добавлением всего лишь семи процентов олова. Как заявил мсье Рудье, литейных дел мастер из Шатильона-на-Баньо, подобный сплав наилучшая гарантия от коррозии. Два других города, Трувиль и Барентен, тоже участвовавшие в проекте, согласились на установление у себя гипсовых копий. Эти памятники куда хуже выносят испытание временем. В Трувиле вскоре потребовалось Гюставить заплату на правом бедре Флобера, а у статуи в Барентене с усов облупился гипс, и торчащие куски проволочного каркаса напоминали ветви, внезапно выросшие на верхней гипсовой губе писателя.
Возможно, литейщик был прав и заново отлитый медный памятник простоит долго, хотя у меня лично нет твердой уверенности в этом, ибо все, что связано с Флобером, оказалось, увы, недолговечным. Он умер чуть менее столетия назад, оставив после себя одни только бумаги: бумаги, идеи, фразы, метафоры, структурную прозу, превратившуюся в звук. Собственно говоря, именно это и хотел оставить нам писатель, к огорчению его сентиментальных почитателей. Дом Флобера в Круассе был снесен вскоре после его смерти, и на его месте вскоре заработала фабрика, производящая алкоголь из порченого зерна. Уничтожить все изображения писателя ровным счетом ничего не стоило. Если один мэр, почитатель памятников, ставил их, то другой, какой-нибудь партийный ортодокс, кое-как прочитав то, что написал о Флобере Сартр, ревностно сносил их.
Я начал свой рассказ с памятника, потому что с него-то все у меня и началось. Почему творчество писателя заставляет нас буквально охотиться за ним? Почему мы не можем оставить его в покое? Неужели нам мало его книг? Ведь именно этого желал для себя Флобер: мало кто из писателей верит в объективность написанного и незначимость самой личности автора, однако мы не желаем считаться с этим и упорно преследуем писателя. Нам нужен его облик, лицо, автограф, скульптура из девяностотрехпроцентной меди, фотопортрет, снятый модным фотографом, лоскут его одежды и локон его волос. Что заставляет нас вожделенно гоняться за реликвиями? Неужели нам мало того, что успел сказать нам писатель? Почему мы считаем, что именно мелкие житейские детали откроют нам что-то о нем новое, еще неизвестное. После смерти Роберта Луиса Стивенсона его предприимчивая нянька, шотландка, не задумываясь, приторговывала прядями его волос, которые якобы начала срезать еще за сорок лет до его кончины. Поверившие в это искатели реликвий успели скупить столько волос с головы Стивенсона, что их с успехом хватило бы для набивки кушетки.
Посещение поместья Круассе я решил оставить на последний день. У меня было пять дней на осмотр Руана, но мой инстинкт, унаследованный с детства, подсказывал мне, что все лучшее следует оставлять напоследок. Не это ли движет всеми писателями? Не торопись, не торопись, лучшее все впереди. Если это так, то самой загадочной и волнующей должна быть неоконченная книга. На память сразу же приходят две: «Бувар и Пекюше», в которой Флобер попытался обнажить и заклеймить все изъяны окружающего его мира, все устремления человека и его пороки. В книге «Идиот в семье» Сартру тоже захотелось обнажить и принизить Флобера, великого писателя и великого буржуа, «грозу» общества, его врага и его мудреца. Но апоплексический удар помешал первому закончить свой роман, а слепота не позволила второму завершить задуманное эссе.
Меня тоже однажды охватило желание писать, появились идеи: я даже стал делать заметки. Но я был врачом, женат, и у меня были дети. Человек способен делать хорошо только одно дело, Флобер знал это. Я же был хорошим врачом. Жена умерла… Дети разбрелись по свету и пишут мне лишь тогда, когда в них заговорит совесть. У них своя жизнь. «Жизнь! Жизнь! Начало воздвижения!» День назад мне попались на глаза эти слова Флобера, и я вдруг почувствовал себя гипсовой статуей с заплатой на правом бедре.
Ненаписанные книги! Стоило ли сожалеть о них. И без них книг слишком много. Я вспомнил, как заканчивается роман «Воспитание чувств». В нем Фредерик и его друг Делорье вспоминают свою жизнь и в итоге приходят к заключению, что их лучшим воспоминанием оказалось посещение борделя, когда они оба были еще школярами. Друзья тщательно спланировали все, сходили завиться, нарвали цветов с чужих клумб для букетов девушкам. Однако, оказавшись в борделе, Фредерик неожиданно струсил, и приятели позорно бежали. И все же они вспоминали об этом как о лучшем, что было у них в жизни. Разве не прав был Флобер, сказав, что предвкушение — самое приятное и верное из всех человеческих ощущений.
Свой первый день в Руане я провел, бродя по городу и пытаясь вспомнить и найти те места, где довелось побывать в 1944 году. Многие из кварталов города сильно пострадали тогда от бомбежек и артиллерийского обстрела и лежали в руинах; спустя сорок лет ремонт собора так и не был закончен. Не оказалось ни единого яркого пятна, чтобы скрасить мои одноцветные воспоминания. На следующий день я отправился на запад от Руана, в Кан, а потом — на север, на пляжи. Мимо мелькали потрепанные ветром жестяные щиты, оповещавшие о погоде, установленные повсюду Министерством общественного труда и транспорта. Они указывали дорогу к пляжам и местам высадки туристов. К востоку от Арроманша начинались британские и канадские секторы пляжей — «Золотой», «Юнона», «Меч». Названия не свидетельствовали о богатстве фантазии и запоминались не лучше, чем Омаха или Юта. Но если в человеческой памяти сохраняются некогда происшедшие здесь события, то вспоминаются и названия мест, где это произошло, а не наоборот.
Грэй-сюр-Мер, Курсель-сюр-Мер, Ансель, Арроманш. Где-то совсем неожиданно в какой-нибудь боковой улочке вдруг на глаза попадалась табличка с надписью «Площадь королевских инженеров» или «Площадь Уинстона Черчилля». Ржавеющие остовы танков как бы продолжали сторожить здесь пляжные кабины и самодельные памятники из пароходных труб с надписями, где на английском, а где на французском: «Здесь 6-го июня 1944 года благодаря героизму Объединенных сил союзников, была освобождена Европа». Теперь в этих поржавевших танках не было ничего грозного и пугающего, все казалось мирным и обыденным. В Арроманше, бросив в щель автомата две однофранковые монеты, я получил удовольствие обозреть местность, глядя в панорамный телескоп, отстучать на морзянке телеграмму в Малберри-Харбор — точка — тире — тире — тире, и отправить ее по кессонной связи через тихие воды пролива. Груды старой военной техники вместе со всей этой частью побережья были полностью колонизированы бродяжьим людом.