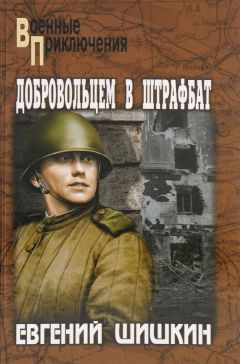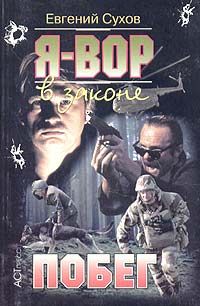Евгений Сухов - Жиган по кличке Лед
Никаких шансов.
Холодный поднялся со стула:
– Мне нечего больше сказать, гражданин Лагин.
Семен Андреевич все-таки хотел ему что-то ответить: железное самообладание на доли мгновения изменило этому человеку. Однако он только сморщил нос, будто хотел чихнуть, да так и не сподобился, и вызвал конвой.
А хотел он сказать, кажется, только одно: именно в этот день похоронили Паливцева.
…Илье давненько не приходилось оставаться одному, если не считать того короткого уединения в собственной квартирке, после которого пошел он колесить по городам, чтобы, что называется, избыть молодецкую грусть-тоску. Как и следовало ожидать, ничего хорошего из всего этого не вышло, да и не могло выйти по определению. Зато теперь была уйма времени, а впереди рисовалась какая-то совершенная громада судьбы, уже написанной и решенной за него: где быть, с кем быть, сколько быть… Конечно, ему было над чем подумать. Проанализировать все то, что к девятнадцати годам привело к такому впечатляющему завершению свободного полета. Причина была проста. Причина лежала на поверхности. Вот теперь, когда он окончательно отторгнут этим жестоким, бессмысленным, не определившимся в самых базовых своих установках обществом, – вот теперь окончательно ясно, отчего все его беды. Он никому не стал своим. Никому. Никакая власть, никакая масть, никакая социальная каста не признала его своим. Чужой. Глупо, глупо теперь отрицать это.
А в самом деле – кто он?.. Обломок никому не нужного и поставленного вне закона рода? Смешно даже рассуждать об этом. Поставленный в трудные жизненные условия интеллигент? Чехов сжег бы все свои книги, когда узнал бы, что вскоре на Руси будет такая интеллигенция и такая молодежь, пробивающаяся в жизни посредством бандитских налетов, провокаций, темных делишек и при этом официально находящаяся под опекой власти. К пролетариату он тоже имеет чрезвычайно малое отношение, то есть не имеет вовсе и никогда не захочет стать ему своим. Илья вообще неохотно произносил и трактовал это дурное словечко – «пролетариат». Люди, гордящиеся своим рабоче-крестьянским или даже откровенно люмпенским происхождением, вызывали у него недоумение, презрение, отвращение, насмешку или – по каким-то жизненным обстоятельствам – добрые дружеские чувства, но никогда – понимание. Собственно, он никогда и не хотел понять этих людей. Слишком велик разрыв в исходных позициях, с которых стартовали в жизнь он, Илья Каледин, записанный Холодным, и большая часть тех, кто, скажем, учился с ним в школе-интернате № 1. И даже рассуждать на эту тему нет смысла.
Ну и, конечно, никогда не будет он своим и для тех, кого натуралистично называют органами. И даже не сыграет своей роли то, что «голубем» – то есть лицом, подстрекающим малолетних к совершению преступлений, – для их лихой интернатской кодлы, пусть и опосредованно, был сам товарищ Лагин. Совершенно это неважно!.. Вот неуклюжий Юрка Рыжов как-то сумел вписаться, сумел показать, что он с чекистами одной кости и одной масти. А Илье саму перспективу испытывать к органам хоть что-то вроде уважения отбили еще в пору беспризорщины. Ну, например, в пору его визитов в Харьков, куда занесло его судьбой сначала на крыше вагона, а потом с частями Добровольческой армии Деникина. Там любопытный подросток сумел просочиться в подвалы харьковской «чрезвычайки» и увидел там такое… Подвиги «товарища Эдуарда» и его подручного каторжника Саенко, которые были полномочными представителями ЧК в Харькове в те незабываемые годы, впрочем, всем хорошо известны. Использование средневековых китайских пыток, кошмарная и бессмысленная жестокость, которой нет ни оправдания, ни разумного объяснения, которое можно найти, скажем, даже деятельности инквизиторов.
…Да уж, конечно, и криминальный мир никогда не признает в нем своего. Да и было бы с чего! Для старых уркаганов, с которыми доводилось встречаться и в Желтогорске, и в Москве, и в иных местах, он, без стажа, без единой ходки – никто, мальчишка, плашкет; даже не босяк или мелкая сошка, а так, беспонтовый фраерок или вообще «красноперый»! Даже если учитывать, что у него есть опыт громщика – рискового вора – и, что называется, иного «хождения по музыке»…
Будь он постарше, он мог бы отлично вписаться в роль жигана. Илья усмехнулся… Жиганами, которые сейчас так рьяно схлестнулись со старыми каторжными кадрами, становились, ну скажем, бывшие профессиональные революционеры, списанные нынешней властью и уже имевшие опыт террора и грабежа – например, эсеры и анархисты; бывшие офицеры и просто понюхавшие пороху на фронтах Гражданской… Илья еще мог припомнить славный 20-й год, путешествия на крышах вагонов, чудо, которое помогло избежать пули за бродяжничество – сначала от красных, потом от каких-то бандитов, а потом и от белоказаков. Неизвестно, что было бы, не попади он тогда на свою вторую родину, в Желтогорск, где почему-то остался – сначала принуждая себя и копя силы на побег, а потом – сознательно и даже с радостью. И даже не надо впутывать сюда ту полудетскую влюбленность… Наверно, было еще что-то: чувство товарищества, по которому он изголодался за время бродяжничества, ощущение хоть какой-то стабильности, пусть она даже и зыблется на краю пропасти – на навершиях того забора у дома купца Константинова…
Жиганы из бывших… Товарищ Лагин, по отдельным данным, хоть и не относился к числу бессмысленных изуверов и вообще был логично поступающим и уравновешенным человеком, отчего и дожил вот уже до конца 1927 года, тоже был из числа молодых эсеровских романтиков, принимавших участие в терроре первой русской революции. А потом имел контакты и с матерыми урками, и даже, как ляпнул как-то по пьянке Паливцев, в девятнадцатом году руководил бандой налетчиков где-то на Украине.
– Да… социальный окрас товарища Лагина тоже получается довольно пестрым, – пробормотал обвиняемый.
Илья еще раз перебрал в голове все эти наивные попытки установить свое социальное соответствие… эх! Да какой смысл теперь искать, кто он? Скорее всего, народный суд быстренько и справедливенько установит для него «высшую меру социальной защиты», как трогательно именуется смертная казнь. И тогда он точно займет свое место в обществе. В каком-нибудь рву для расстрелянных. Хотя не стоит демонизировать Советскую власть: вполне могут отвести в уютную безымянную ямку где-нибудь на окраине Желтогорска. Кстати, вспомнил Илья, неподалеку от Иерихонки имеется отличное Воскресенское кладбище, прославившееся тем, что в 1918 году по разнарядке, спущенной из Москвы, туда согнали 60 человек и расстреляли, несмотря на уверения отдельных товарищей, что они – все-таки товарищи, а не граждане и господа. Позже выяснилось, что в толпу приговоренных действительно каким-то манером попали трое новоиспеченных сотрудников Желтогорской ЧК, недавно переведенных из соседней области. Было весело…
Илья ошибался. Мера социальной защиты, которую он так щедро отвел себе руками добрейшего народного суда, оказалась не такой суровой. За двойное убийство – как несложно догадаться, материалы дела скомпоновали так, что смерть Евгения Лившица тоже вменили в прямую вину Илье, – получил он свои честные 20 лет строгого режима. В свое время Холодному приходилось видеть человека, который отмотал на каторге аж четверть века, ему было как раз 44 года – ровно столько, сколько будет самому Илье, если он отмотает от звонка до звонка. Колоритный этот тип, закованный в доспехи синих тюремных наколок от кончиков ушей до кончиков пят, выглядел на добрые семьдесят, беспрестанно кашлял и мог похвастать наличием аж двух зубов. А через два месяца житухи на воле попросту загнулся от чахотки, приобретенной на курортах «тюрьмы народов» – как мило именовали старую Россию новые, теперешние ее хозяева.
Характерно, что убийство совершал Илья Холодный, а срок получил Илья Каледин. Настоящая фамилия обвиняемого произвела настоящий фурор: в городе еще помнили дедушку Ильи. Новые материалы к делу, конечно, великодушно передал следствию товарищ Лагин, который через месяц после оглашения приговора уехал в Москву и назад в Желтогорск уже не вернулся, получив удачное назначение в столице, в аппарате одного из бесчисленных управлений все разрастающейся бюрократической машины.
Дочь и Александру он, конечно, забрал с собой. Алька вообще не жаждала оставаться в городе, который отнял у нее столь многих.
Илья не успел узнать других подробностей. Многие из гостей, почтивших своим присутствием свадьбу Паливцева, неожиданно обнаружили, что жизнь вовсе не так прекрасна, как им казалось. Лишившись своего солидного компаньона, Лившица, Прутков вскоре узнал, что их семейные магазины и артель закрываются как частнособственнические предприятия и открываются уже на общественных началах. Проще говоря, реквизируются в пользу муниципалитета. Папаша-то Пруткова после этого удачно умер и уже не успел почувствовать, как затягиваются гайки, а вот его отпрыск получил срок по пустяковому делу и поехал на трехлетнюю экскурсию в Мордовию.