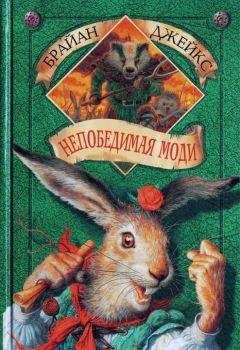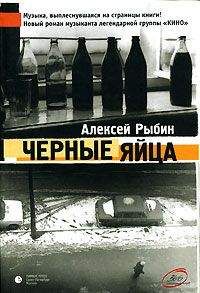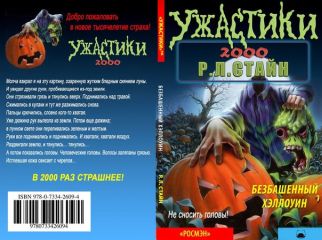Черные бабочки - Моди
Ее фраза пронзила меня, как удар ножницами. Мне хочется ударить по рулю, по лобовому стеклу, закричать во все горло, но ничего не выходит, и я проглатываю все молча. Бросив мне в лицо, что я такой же, как и остальные, она, как всегда, отворачивается к морю, словно настоящая маленькая принцесса. Я. Я, кто делал для нее все, кто потратил свою чертову жизнь, чтобы сделать ее счастливой. Такой же, как и остальные… Да ладно. Вот что ее заводит — остальные. В этом она находит наслаждение. Если ей это нужно, я дам то, чего она хочет.
Не произнося ни слова, я снова завожу машину, разворачиваюсь, заставляя шины скрежетать, чтобы вернуться обратно. Три километра. Молча. Кулаки сжаты на руле. На заправку, где автостопщик все еще стоит с плакатом. Резкий тормоз, Соланж удерживает себя рукой на приборной панели.
— Ну а что ты теперь делаешь?
— Даю тебе то, что ты хочешь.
Мужчина смотрит на нас, ему, наверное, интересно, почему мы вернулись, но он не морщится, потому что, судя по его виду, люди нечасто останавливаются. Он одет как клоун, полностью в черном, с потертыми джинсами, желтыми шнурками на ботинках, цепью вокруг талии, курткой-косухой, усыпанной значками и шпильками. И большой красной буквой «А» на спине. «А» как «Амеба», я полагаю, с его самодовольным видом, в таком-то наряде. С одной из тех смешных стрижек, которые все чаще можно увидеть, ирокезом, будто он причесывает себя, вставляя два пальца в розетку. Нам все равно, он мог быть хоть в костюме космонавта, это бы ничего не поменяло.
Я спускаюсь, чтобы открыть ему багажник, так как у него рюкзак больше его самого, и Соланж мрачно смотрит на меня.
— Альбер…
— Что, Альбер? Я помогаю.
Она покачивает головой со вздохом, потому что парень уже бросил взгляд на ее ноги, и она прекрасно знает, как это закончится. Как будто это не то, что она хотела.
Но клоун не один. Есть две сумки. И девушка, выходящая из-за дерева, застегивая юбку. Та же стрижка «ежика», такой же стиль одежды: шотландская юбка, разорванные черные колготки, ботинки рейнджеры, слишком большая для нее куртка мотоциклиста. Такого я не планировал, но слишком поздно, парень уже устроился на заднем сиденье, и я так раздражен, что перестаю думать.
Я возвращаюсь на дорогу без слов, оба пугала улыбаются нам, и я смотрю на них в зеркало заднего вида с сердитой физиономией. Как ни странно, парень начинает принимать позы. Он подправляет кончики волос, любуясь своим отражением в заднем стекле. Еще ничего, если бы ему было хотя бы четырнадцать, но нет, ему, должно быть, тридцать. И он болтает с нами, пока глаза скользят по ногам Соланж.
— Вы из местных?
— Нет.
— В отпуске, так, что ли?
— Да.
Соланж наконец чувствует к нему жалость, принимает эстафету и начинает болтать. Отпуск, погода, трудности путешествия автостопом. Старый, добрый, вежливый разговор ни о чем. Не хватает только бигуди, и я бы мог подумать, что нахожусь на работе.
— Вы вместе? — спрашивает меня этот придурок, будто это его дело.
— Да.
— Давно ли?
— Да.
Соланж косо смотрит на меня, но я притворяюсь, что не замечаю.
Километры сменяются, я сворачиваю на маленькое богом забытое шоссе. Вглядываясь в дорогу и ничего не говоря, я слушаю их разговор о музыке, словно они знакомы уже много лет. Тип замечает мою кассету с Клодом Франсуа, это его смешит, и я даже не знаю почему. Он начинает перечислять группы, которые никто не знает, которые якобы бьют рекорды в Лондоне. Как будто нам есть дело, что там происходит в Лондоне. Если бы у меня было на это лишнее время, я бы посоветовал им послушать Джонни, потому что это настоящая музыка, но уже слишком поздно, чтобы учить их жизни. А Соланж уже погрузилась в игру, и я знаю, что она делает это, чтобы мне досадить. Она оправдывается, даже если это приходится делать за мой счет. На отдыхе мы слушаем песни для отдыха. Клод Франсуа и все такое. Для поднятия настроения. Для дороги. Но то, что она действительно любит, — это The Doors, Дженнис Джоплин, Pink Floyd. И немного диско, но просто так, чтобы потанцевать. Девушка немного отключилась, задремала на подголовнике, но парень не отрывает глаз от Соланж. Он впитывает ее слова, смеется, пододвигается ближе, якобы чтобы лучше ее слышать, из-за ветра вокруг. Еще несколько километров, и он будет видеть только ее.
Как и остальные.
— У меня есть кассета, если хочешь. Ты за?
Так, теперь мы еще и на «ты». И да, она за, и он передает ей свою подборку популярных в Лондоне треков, а меня это так бесит, что я еле сдерживаюсь, чтобы не достать его кассету и не выкинуть в окно. Эта его штука — просто шум. Шум. Крики, искажения, треск. Если это действительно то, что слушают англичане, то мне их жаль.
Соланж гримасничает, парень ржет и попутно, конечно же, брызгает Соланж слюной в шею.
— Подожди ты, нужно слушать слова! Ты знаешь английский?
— Нет.
— Не беда. Я могу перевести.
Не только проигрыватель с трудом это выдерживает. Я резко торможу, просто так, без предупреждения, потому что я больше не выдерживаю их маленькую игру. Прямо сейчас. Посреди дороги. Отключив звук, потому что мне не хочется оглохнуть.
— Эй, ты что, с ума сошел? — говорит Соланж, чуть не потеряв свои солнцезащитные очки.
— В моторе шум.
— Я ничего не слышу.
— Говорю, там шум.
Я открываю дверь, мельком смотрю в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что никто не приближается. Девушка потягивается, зевая, не обращая внимания на парня, который прилип к спинке Соланж, как устрица к камню. Теперь, чтобы ее развеселить, он шутит о моем стиле вождения. Он, наверное, думает то же, что и все остальные: смеющаяся женщина — уже наполовину в твоей постели[41]. Мы знаем таких парней, как он, у нас их полная коробка. Знаем достаточно хорошо, чтобы не сомневаться, что менее чем через минуту, если я отойду шага на два, он начнет лазить руками повсюду, говорить ей, какая она красивая, пытаться поцеловать ее в шею. Предложит секс вдвоем, втроем, вчетвером, что угодно, лишь бы переспать с ней. Она оттолкнет его, он станет навязчивым, он станет агрессивным, он назовет ее шлюхой, и он закончит, как и остальные, с ножницами в горле.
Все они одинаковые в конечном итоге.
— Альбер, что ты делаешь?
Я выхожу, хлопаю дверью, поднимаю капот и пытаюсь успокоиться, опуская голову в моторное отделение. Но этот дурак подходит ко мне, потому что работал в гараже, и нам повезло, ему нравится выступать в роли спасителя. Должно быть, свечи зажигания. Или генератор. Или вон та штука снизу. Я просто позволяю ему махать руками, и тут во мне все закипает, переполняется, а он еще и с ухмылкой поглядывает на Соланж.
— Не стесняйся, ладно? Можешь представить, что меня здесь нет.
Он смотрит на меня, не понимая. И тогда я хватаю его за воротник, вытаскиваю его голову из-под капота и пинаю его назад. Без особых усилий, потому что под его курткой мотоциклиста наверняка всего-навсего шестьдесят килограммов, и то, когда промокнет насквозь.
— Что с ним такое?
— С ним то, что он не любит, когда надо мной насмехаются.
Соланж поражает меня гневным взглядом, указывая мне на девушку на заднем сиденье. Она права, я знаю, что она права, но теперь уже слишком поздно.
— Если это из-за Клода Франсуа…
Либо он специально прикидывается, либо полный идиот. Я делаю вывод, что он это сделал нарочно, и толкаю его обеими руками, в любую секунду готовый врезать. У него перехватывает дыхание. Его прическа растрепывается. Он орет, что я сумасшедший, девушка называет меня идиотом, Соланж выходит из машины, а я продолжаю пинать его.
— Альбер, черт побери!
Слишком поздно, я на нем, замахиваюсь, и он достает что-то из кармана, лезвие, которое разворачивается мгновенно, тонкое и длинное с черными отблесками. Я думаю: «Черт — нож!», отодвигаюсь, спотыкаюсь, но он уже ударил, и боль пронзает мою грудь. На долю секунды мне кажется, что все в порядке, что это всего лишь порез, но воздуха начинает не хватать, боль поднимается по спине, моя рубашка становится красной. Я вижу его глаза, ему страшнее, чем мне, он кричит «Убирайся!» этой своей дурочке, которая громко визжит. Соланж держит меня, делает, что может, говорит что-то, но я слишком тяжелый, и головокружение затягивает меня, манит к земле, заставляет небо кружиться. Я умру здесь, черт возьми. На асфальте, на гравии. Я не знаю, куда пропало море, есть только синева и кровь, которая просачивается между моими пальцами. Я надавливаю, прижимаю, но это не останавливает ничего, даже тошноту. Я бы хотел что-то сказать Соланж — извини, прошу прощения, я тебя люблю, — вместо этого я говорю «больно» и потом вдыхаю. Выдыхаю. Дыхание — это жизнь, вот что важно; если я остановлюсь, то умру, но я не могу, не могу больше, остро колет грудь. Мое зрение затуманивается. Небо становится размытым. Это плохой знак. И мне холодно.