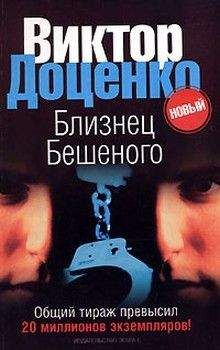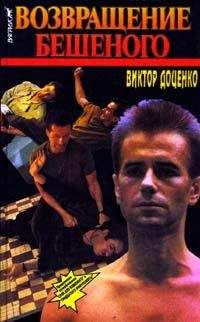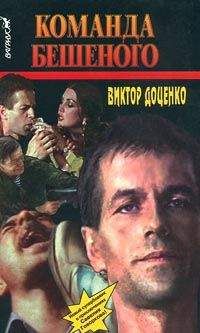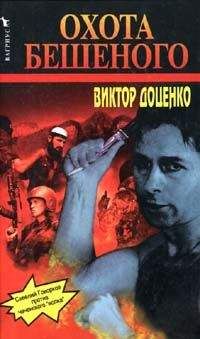Дмитрий Вересов - Сердце Льва
С соседями по купе ему повезло крупно — две смешливые разбитные доярки, едущие показать себя на ВДНХ, и конвойный старшина, выслуживший краткосрочный отпуск за отменную результативность в стрельбе. Аксиома конспирации — не выделяться из общей массы. С попутчиками Хорст установил контакт без напряжения, благо точки соприкосновения отыскались сразу. Познакомились, разговорились, откупорили трехзвездочный за встречу, трижды повторили, спели хором: «Едем мы, друзья, в дальние края, будем новоселами и ты, и я», раздобыли «Старки», «Московской» и «Столичной» и, разгорячившись, принялись знакомиться на ощупь, на гормональном уровне. Бежали за окном столбы, стучали мерно и занудливо колеса, стонали от прилива чувств умелые и ласковые доярки. Двое суток пролетели как сладкий сон, на третий день ближе к вечеру поезд прибыл в Москву. На вокзале Хорст пёрекомпостировал билет, и скоро комфортабельный экспресс уже мчал его в северную столицу.
Андрон (1977)
В полку, что и говорить, было куда как лучше, чем в учебке: благоустроенная казарма, натертые полы, фаянсовая, блистающая чистотой шеренга унитазов. А еще — хромовые сапоги с накатом, красная, называемая презрительно «селедкой», рыба по субботам, слоеные, по шесть копеек, язычки у хлебореза — хоть жопой ешь. Борщ, подлива с кусками мяса, вареные яйца со сливочным маслом и белым хлебом. Компот в большой эмалированной кружке с цветочками…
Полк только-то и название что полк, по сути своей батальон. Попал Андрон во вторую роту к старшему лейтенанту Сотникову, командиру строгому и справедливому, прозванному подчиненными Шнобелем. И верно — скомандует построение, пройдется хищно вдоль замерших шеренг да и поведет по-звериному носом.
— Что, ептуть, весна? Ручьи? Hюx потеряли, но п…зду почуяли?
Замполит, лейтенант Зимин, общался с подчиненными по-иному — с тонкой интеллигентностью и неприкрытым чувством юмора:
— Вохра, слухай сюда: крепких напитков не употреблять, с падшими женщинами не общаться. Поясняю для дураков: не глушить, что горит, и не е…сти, что шевелится!
Впрочем, с командиром части, полковником Куравлевым, что он, что старлей Сотников держались одинаково — на полусогнутых, верней, по стойке «смирно». Не потому ли вторая рота неизменно числилась в передовых — в войсках ведь главное подход и отход от начальства. Только передовая-то она передовая, но ведь и на солнце бывают пятна. Ложкой дегтя в бочке меда второй роты был третий взвод. Он так прямо и назывался — «отстойником». В него со всего полка собирали залетчиков, блатников, лиц с высшим образованием, большей частью художников — неотвратимое, но необходимое зло, — отсосников всех мастей и разгильдяев. А командовал сей бандой потенциальных дезертиров вечный лейтенант Грин, высокий, жилистый и угрюмый, всегда коротко остриженный, чтобы не курчавились смоляные кудри. Почему вечный? Да потому что ниже — некуда, младших лейтенантов в войсках не культивируют, а выше уже никак. Да собственно и не Грин он был совсем — Гринберг, но из соображений этических прикрывался служебным псевдонимом.
А еще Грин был вор. Ворище. Давно, в бытность его капитаном, в роте у него служил боец, рядовой Ровинский, скромный гравер из Гатчины. Бог знает, чем сей гравер занимался, но только денег у него было как грязи, и дабы служилось лучше, он предоставил в полное командирское распоряжение свою машину. Новенькие с иголочки «Жигули» одиннадцатой модели. Цвета «коррида». И Гринберг покатил с ветерком — ни доверенности, ни опыта, ни царя в башке. Только милицейская форма, двести пятьдесят «Столичной» и древние, полученные еще в училище права. Была еще, правда, дама, блондинка, тесно прижимающаяся к плечу. Рулил недолго, не разъехался со столбом. Отправил блондинку в больницу, «Жигули» цвета «коррида» на свалку, а подъехавшим гаишникам заехал в глаз с криками: «Смирно, азохенвей! Я из Моссада!»
«Так, значит, вы из Моссада? — ласково спросили Гринберга на следующий день в сером здании неподалеку от Невы. — Интересно, интересно. Чрезвычайно интересно…»
Ничего интересного, стал капитан старшим лейтенантом, командиром взвода. Того самого, третьего. А тем временем Ровинский ушел на дембель, но не с концами — вернулся с полудюжиной дружков, с улыбочкой напомнил о деньгах: «Евгений Додикович, отдай лучше сам».
Дружки тоже улыбаются, блестят фиксами. Пригорюнился старший лейтенант Грин, закручинился — где же денег-то взять? Неужели все, хана, писец, амба?
Да нет, не все, случай помог. Спустя неделю на службе докладывает ему сержант, мол, товарищ старший лейтенант, мы тут такое нашли, просто чудо, пещера Аладдина. Гринберг проверил — и верно чудо, только не пещера Аладдина, а подсобка магазина, с гнилым, провалившимся от старости полом. Приподнял доску, посветил фонариком — а внутри гора верблюжьих одеял, цветастых, дефицитных…
Хвала тебе, Яхве! Без промедления одеяла перекантовали в УАЗы, доставили на квартиру Гринберга и вскоре заботами его супруги благополучно обратили в проклятый металл. Евгений Додикович обрел душевное спокойствие. Правда, ненадолго. Кражу своего добра государство не прощает никому. Повязали всех, а крайним, как всегда, оказался Гринберг. Теперь уже беспартийный лейтенант.
Вот к нему-то в залетный взвод и был определен Андрон рядовым стрелком-патрульным во второе отделение. Ничего, пообтерся, приспособился, человек привыкает ко всему. Тяжелый понедельник с вояжем в Васкелово, баня во вторник, в воскресенье, если очень повезет, шестичасовое увольнение в город. Все остальное время — служение родине. Большей частью патрульно-постовое, иногда охрана важных шишек, редко — обеспечение правопорядка на общественных мероприятиях. Ненавистный командир Скобкин превратился из лихого замкомвзво-да в обыкновенного сержанта, номер которого шестнадцатый. Ничего, жить можно.
Дедовщины, по крайне мере в явном виде, в полку не было, неуставные отношения глушили на корню. Правда, процветало стукачество, но тут уж все зависит от самого себя — держи язык за зубами, не верь никому и почаще оглядывайся, словно летчик-истребитель. Андрон так и делал, молчал, держался на расстоянии, помнил как «Отче наш»: человеку дано два уха и только один рот. Всё больше слушал, набирался опыта, внимал с почтением ветеранам.
Раньше-то служба была другой, больше милицейской, чем солдатской. Раскатывали себе на черных «Волгах», жили экипажами, с комфортом, в кубриках, не страшась начальства и расстояния, умудрялись ездить с барышнями в Таллин. С песнями, под вой сирен. Служебные удостоверения светили где надо и где не надо. Вот и довыпендривались… Теперь — поносные УАЗы, казарма, строй, никаких там барышень.
Чтобы не путал бес, мудрые отцы командиры принимали решительные меры — гонки в ОЗК, плац, физо и служба, служба, служба. Только помогало мало, откормленные красной рыбой эсэмчеэновцы трахали все, что шевелится. Так рядовой Семенов из автороты сожительствовал стоя с активисткой ДНД, в каптерке у художников нашли использованный презерватив и женские трусы, а старослужащий сержант Завьялов конкретно намотал на болт, не доложил начальству и тайно самолечился перманганатом калия. Снят с должности, определен в госпиталь и разжалован в рядовые — чтобы другим неповадно было.
Андрона половой вопрос мучил по ночам, являясь в образе прекрасной незнакомки, увиденной однажды на белогорских танцах. Вот она сбрасывает свое белое платье, кладет ему на плечи руки, и они проваливаются в блаженное, невыразимое словами небытие. Не остается ничего, кроме губ, впиваюшихся в губы, упругих бедер, трущихся о бедра, двух трепещущих, слившихся в одно, судорожно сплетенных тел. Бьется в сладостной агонии незнакомка, разметала по подушке рыжие волосы, стройные, с шелковистой кожей ноги ее опираются икрами о плечи Андрона. А он, изнемогая от счастья, из последних сил длит до бесконечности конвульсии любви. Остановись, мгновенье, ты прекрасно! И вдруг откуда-то издалека, из душной темноты казармы доносится крик дневального: «Рота! Подъем! Тревога „Буря“!»
А следом рев сирены, лязг открывающегося замка ружпарка, дикая ругань, крики, мат, топот солдатских сапог. Надо вскакивать, мотать портянки, бежать куда-то в неизвестность в противогазе с автоматом. Скрипя зубами, со слезой по ноге. А рыжеволосая фея, как всегда, остается там, в радужном, несбыточном сне, желанная, прекрасная и загадочная.
Впрочем, грезы грезами и незнакомки незнакомками, но Андрон не чурался и девушек реальных, сугубо земных, многократно проверенных, — это если службу несли в Петроградском районе, не было внегласки и маршрут позволял. Главное, чтобы напарник был путевый, не вломил, а там — двинуть по проспекту Горького, свернуть на Кронверкскую, оглядываясь, как подпольщик, нырнуть во дворы. И вот оно, родимое, общежитие прядильной фабрики «Пролетарская победа» — обшарпанная дверь, ворчливая вахтерша, замызганная полутемная лестница. Окурки, грязь, отметины на стенах, второй этаж, разбитое окно, выше, выше, третий, четвертый. Теперь налево по скрипучим половицам, вдоль бесконечного петляющего коридора. Душевая, туалет, унылого вида кухня, комнаты, комнаты, комнаты. У сорок третьей остановиться, лихо заломив фуражку, постучать: «Привет, девчонки! Ку-ку, не ждали?»