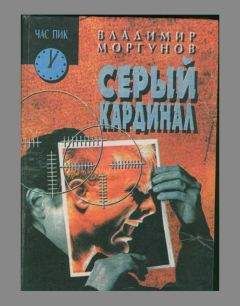Валериан Скворцов - Укради у мертвого смерть
Грузовики ждали с работающими моторами. Из выхлопных труб над кабинами чадило. С джипов в мегафоны подавались команды. За почтамт, у которого начиналась ведущая в центр Чароен Мыонг-роуд, шаркая кедами в такт, уходило шествие «сельских скаутов» деревенских увальней в шортах, широкополых шляпах и с дубинками на плечах... Отсутствие огнестрельного оружия восполнялось изобилием аксельбантов, нашивок, фляжек и кинжалов. На этих тоже отвисали портившие красивую форму противогазные сумки. Каждый десятый тащил носилки.
Ват делал пометки в блокноте. Рядом переминался высокий здоровяк в белой гуаябере. Отдуваясь, он поставил на асфальт красный кофр-холодильник и вакуумный термос, блещущий никелем. Когда он наклонялся, из выреза рубашки скользнул серебряный замок на цепочке. Здоровяк, от которого тянуло плохим виски, подпихнул амулет пальцем назад.
— О, Будда! Ни носильщиков, ни встречающих, — проворчал он по-английски. И почти без перехода молодцевато и весело заорал, прижмурясь от натуги, по-тайски:
— Ура защитникам родины и национальных ценностей! Ура бесстрашным сынам! Ура!
Пассажиров, задержанных проходом деревенского войска, скопилось несколько десятков. На крик никто не обратил внимания. Только Ват, стоявший ближе других, сунул блокнот в задний карман брюк, повернулся к здоровяку и, как бы зажегшись от него, подхватил, придерживая пальцами разболтанные дужки очков:
— Ура защитникам! Ура защитникам! Ура национальным ценностям! Ура всем нам!
Человек с кофром и термосом покосился на единомышленника. Несвежая тенниска с вышедшим из моды языкастым воротничком, брюки винтом, сандалии на босу ногу, дерюжная торба с пожитками, часов нет, пластмассовые небьющиеся стекла очков в царапинах.
— Слушай-ка, парень! Дотащи до стоянки кофр и термос. Получишь двадцатку.
— Вы... иностранец! Вы предлагаете мне подзаработать переноской ваших вещей в этот ответственный час для безопасности родины? Патриотов не купить! Ура!
— Ура! откликнулся здоровяк. — Однако какие основания у вас считать меня иностранцем?
Стоявшие поблизости отводили глаза. Пререкающихся патриотов принимали за подвыпивших. В тот момент только это и понял Бэзил, остальное Ват пересказал по-русски в такси.
Бэзил тронул Вата за рукав, кивнул в заднее окно дребезжавшего крыльями, хрипевшего прогоревшей выхлопной трубой и стенавшего коробкой передач «ситроена», приборную доску и сиденья которого покрывал густой слой пыли. Следом, лишенный возможности из-за воинских грузовиков обогнать «ситроен», величаво плыл перламутровый «крайслер-ньюйоркер» с номерным знаком из четырех восьмерок. Здоровяка встречала эта машина.
— Не боишься дерзить таким?
— Ого! Большие деньги демонстрируют мощь... Но на меня им плевать, — сказал Ват. — Я нахожусь вне сферы их интересов. Вот Пратит Тук, которого убили, пожалуй, их сильно волновал... Но, предостерегая, ты, к сожалению, прав. Жить в этой стране мне.
— Чья такая карета?
— Их шесть. Помимо «ньюйоркера», три «мерседеса» и два «роллс-ройса». У всех номера с четырьмя цифрами — из четырех восьмерок. По поверью хуацяо, цифра является мифологическим воплощением денег и их всесилия. Чан Ю, владелец роскошных тачек, заплатил за каждый номер по сто пятьдесят тысяч батов на торгах в дорожной полиции... Конфуций завещал состоятельным людям избегать трех вещей. В молодости — притязаний, в зрелом возрасте — пререканий, в старости — скупости...
— Чан Ю жив?
— Никто не знает в точности. Возможно, древний проходимец здравствует, возможно — нет. Чтобы сохранить авторитет, нужна таинственность. Известно, что Чан Ю выбрал Чиенгмай для проживания из-за климата и обретается в специальных апартаментах гостиницы «Чианг Инн» на последнем, восьмом этаже, блокированном наглухо. Один бедовый офицер из армии сунулся на восьмой этаж «Чианг Инн» в связи с расследованием опиумного дела и оказался уволенным. Вот так вот!
— Тогда твоя выходка в отношении человека Чан Ю, или, во всяком случае, человека, за которым прислали машину Чан Ю, может тебе дорого обойтись.
— Ты новичок на Дальнем Востоке, Бэзил? Да плюнь я в рожу Чан Ю публично, он не шевельнется. Разве я запустил руку в его кошелек? А вот возьми я оттуда без спросу десяток батов, тогда за мою шкуру можно не давать и одного...
Ват помрачнел, съежился в углу чиненного липучим пластиком сиденья. Пальцы, сжатые над торбой, шевелились. Сказал:
— Ненавижу бедность и хотел бы иметь много денег... Чем образованнее человек, тем сильнее должен ненавидеть он бедность, лишающую возможность творчества. В высшем смысле. Но я и ненавижу деньги, потому что деньги... лишены достоинства. Хотел бы сделаться богатым, иметь дом, машину, досуг, возможность покупать книги, что-нибудь коллекционировать. Не больше. Но у денег нет достоинства. Не знаю, понимаешь ли ты меня. Деньги съедают в человеке человека... Я люблю деньги, хотя они вызывают гадливость. Может, из-за этой раздвоенности я не ушел в джунгли в семьдесят шестом году после расправ «красных быков» над студентами и профессорами в университетах... Хотя большинство ушедших все равно вернулись... Я — ни там, ни здесь... Ну, бросим эту гнилую... ватовщину. Ха-ха...
Бэзил не ответил. Ват открыто, может, слишком открыто для тайца, говорил с иностранцем о том, о чем не принято говорить в этой стране вообще — о сомнениях. Если он сказал все, то и добавлять что-либо значило проявлять внешнюю форму участия. Если не все, то любое, не важно какое, слово могло спугнуть такую редкую на Дальнем Востоке птицу, как откровенность, разговор по душам.
За мостом Наварак через красноватую Пинг, где они свернули влево, «крайслер-ньюйоркер» ушел прямо по Чароен Мыонг-роуд.
Бэзил и Ват промолчали до гостиницы «Чиенгмайский гостевой дом». В деревянном холле, продуваемом ветром с видневшейся в окнах реки, расстались, договорившись сойтись вечером. Бэзил забросил сумку в отведенный по его просьбе свой прежний номер, посидел минутку в бамбуковом кресле, погладил матовую столешницу старинного бюро. Так замечательно писалось на ней пять лет назад!
В ресторанчике на Сидорчайн-роуд он съел пресноватый горский шашлык, попробовал перепелиных яиц, потом устриц, не зная, чему больше радоваться — покою, редкой еде или давно не ощущавшейся естественной, а не кондиционированной прохладе. В сувенирной лавке на Вуалай-роуд нацелился на серебряную гривну и серьги, да вспомнил таллиннское расставание...На перекрестках ветер с реки полоскал полотнища с надписями «Детоксикационный пункт», под которыми стояли армейские палатки. Рябь перебегала по их пузырившимся стенкам.
Распаренный после душа, Бэзил почитал в постели, с наслаждением укрывшись одеялом, подремал под шум листвы, стрекот скворцов и крики лодочников, доносившихся через открытую балконную дверь. Он одевался, собираясь на встречу с Ватом, поглядывая в эту дверь, в которую теперь виднелись монахи в оранжевых тогах, гулявшие на песчаных косах противоположного берега. Некоторые купались. Развешанные на бамбуковых прутьях мокрые одеяния, песок, серебрившаяся вода, небо с вечными, будто пять веков простоявшими неподвижно облаками, и зелень, которая, поднимаясь по мягким холмам, становилась синей, все более синей и сливалась с небом, казались ненастоящими, вставленными в кадр цветного фильма. Выманило на балкон. Деревянные перила, нагретые солнцем, отдавали ласковое тепло ладоням. Сквозняк потрепал волосы. Рикша-водовоз, подсучив куцые штаны, заливал внизу воду в керамический чан...
К гостинице «Ринком» Бэзил добирался пешком, жалея, что не захватил пуловер. Дой Сутхеп, в сторону которого шел, уже положил тень на улицы, высветив загоревшиеся электрические иероглифы китайских реклам. У палаток с надписями «Детоксикационный пункт» гудели дизелями грузовики. От них тянулись провода к прожекторам.
Обойдя пахнувшую молоком и травой корову, вынюхивавшую арбузную корку в водостоке у входа в «Ринком», Бэзил купил у портье «Северное приложение» к «Бангкок пост». В баре Вата не было. С высокого табурета у стойки кивнул японец—попутчик. Вышколенный бармен сдвинулся с места не раньше, чем Бэзил освоился в малиновом полумраке и выбрал уголок в конце стойки у плаката, оповещавшего об открытии Чиенгмайским университетом и городским полицейским управлением выставки безопасности движения. Сидевший через табурет европеец в белой рубашке с длинными рукавами, на которой выделялся металлический крест, приколотый над левым кармашком, чуть улыбнулся — мол, будем соседями. В рюмке темнело вино, и по этому признаку и кресту Бэзил определил, что он католический патер в цивильном.
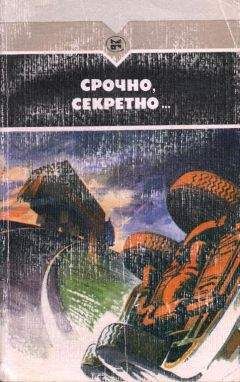
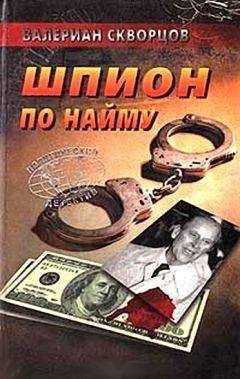
![Росс Томас - Смерть в Сингапуре [сборник]](/uploads/posts/books/13740/13740.jpg)