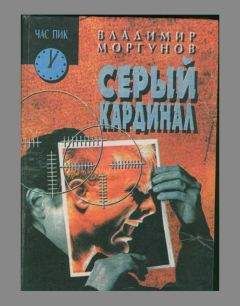Валериан Скворцов - Укради у мертвого смерть
— Вам спасибо, господин, — спохватился кондуктор. В кармане лежала полумесячная зарплата. Подобных чаевых видывать не доводилось, а в добро он не верил, потому что не знал — что это такое. Низкий лобик сморщило гармонью.
Непредвиденное и необычное вызывало неопределенный страх.
Палавек посмотрел в расписание, которое нашел в сетке перед собой. После Бангкока остановка предстояла через два часа с половиной. Стоянка три минуты... Незаметно, когда все погрузятся в дрему, перебраться в кресло седьмого ряда. На остановке за несколько секунд до отправления выстрелить сквозь спинку кресла в Цзо на восьмом ряду, пробежать по проходу, оттолкнуть кондуктора, спрыгнуть. Дальше по обстоятельствам...
За окном мелькнули черточки одиноких пальм среди полей. Будто серебряный шарф, брошенный в долину, блеснула река. Черными парусами, наполненными ветром, прошли очертания вогнутых скатов крыши пагоды.
Через час он перебрался в седьмой ряд. Сидевший у окна старичок бонза не повернул головы. Развернув банановый лист, подбирал щепотью комки клейкого риса с рыбой, чавкал, хлюпал носом... Долго не засыпал, ворочался.
Автобус остановился плавно. Бонза похрапывал, заложив — по монастырской привычке спать без подушки — руки за голову. Практически никто не видел в лицо Палавека, кроме кондуктора. Да и он будет молчать, из трусости не сознается, что получил пятьсот батов «масляных денег».
Палавек выждал две с половиной минуты. Проход между креслами оставался пустым. По причине ночи и спящих пассажиров свет в салоне не зажгли. Кондуктор копошился впереди у двери, которая была освещена и открыта.
Он снял с предохранителя «беретта-билити». Приставил дуло к спинке кресла. Привстал, чтобы видеть поверх подголовника, как смерть придет к Цзо.
Подтянутые к вискам, миндалевидные глаза смотрели с удивлением снизу вверх.
— Моряк?
Опустил парабеллум.
— Здравствуйте, госпожа...
На коленях она сжимала пакетик с полотенцем и косметической сумочкой.
Палавек услышал, как впереди мягко захлопнулась дверь, зашипели отпущенные тормоза.
Глава четвертая. «СТОРОНА ЗОЛОТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
1
Бэзил отхлебнул зеленого чая из чашечки. Поперхнулся и ощутил то же, что случалось в детстве, когда не успевал сжать губы, ныряя в Сунгари: выгребаешь наверх и чихаешь, и кашляешь, и хватаешь воздух, барахтаясь, а ребята смеются.
Поезд, плавно подрагивая на стыках, будто по рельсам из мнущегося металла катил вдоль затопленных фиолетовых чеков. Ломаясь на дамбах, пролегла лунная дорожка, ущербная от щетинок рисовой рассады.
Сосед по купе, японец, которого за минуту-две до отправления доставили две девушки в вечерних платьях «веселого квартала» Патпонг, приоткрыв ротик, похрапывал, причмокивал, постанывал, подобрав ножки к животику. Проводник, разволновавшийся в ожидании возможного протеста Бэзила, с повышенным вниманием следил за состоянием поданного чайника — горяч ли, хороша заварка?
Японец, приоткрыв глаза, в порядке извинения бормотнул:
— Бумажные цветы. Измазанные краской губы... Ничего настоящего. Следует убить собаку, чтобы умиротворить хозяина... Я уже сплю.
Из кармана кремового пиджака торчала обложка журнала с фотографией истребителя-бомбардировщика «Тайгер-шарк» и надписью — «Достаточно сильный, чтобы победить, достаточно грозный, чтобы сдерживать. Его наличие — самовыражение национальной воли».
Бэзил задремал, а потом его разбудил вой «самовыразителя национальной воли», может, похуже классом, уже унесшегося в ночном небе километров за триста от поезда. По реакции на самолеты десять лет назад в Ханое распознавались новички. Старожилы ухом не вели, когда ревело в небе. Стоило суетиться, если звук, словно хвост, подтягивался только после «американца»?
Сосед успел каким-то образом бесшумно раздеться и забраться в стеганный мелким квадратом спальный мешок- сумочку. Костюмчик висел аккуратно на складной вешалке, покачиваясь в такт мотанию вагона.
Сон ушел, и Бэзил уставился в ночь за окном...
Когда он подарил Рите последнюю книгу, писавшуюся с перерывами, трудно и удачно, она сказала, взглянув на обложку с цветной фотографией:
— Тебе не приходило на ум, что писать о Востоке, впитывать его цивилизацию похоже на... кражу чужого наследства? Ты ведь плохо пишешь, ничего не добавляешь от себя. Глядишь и пишешь: один верблюд идет, второй... ослик прорысил... Тамошние люди скопили за тысячелетия столько всего необыкновенного, когда наши предки едва сплели первый лапоть и едва нацарапали первую строчку на бересте...
Обычно Рита никак не называла его. Разница в возрасте составляла двадцать лет. Только на людях — по имени-отчеству. Книжку они отметили в ресторане «Русь» за кольцевой дорогой. В канун отъезда в Таллинн. Билеты лежали в ее сумочке, чтобы, как она сказала, вещественно уведомить мужа, что едет с подругой.
Бэзил отшутился:
— Первая строчка, написанная обувавшимися по тогдашней моде прародителями, символизировала конец гласности в их общинной жизни. Раньше гонцы выслушивали, запоминали и передавали наизусть заученные слова вождей... А потом относили письма, не зная их содержания. На нашей половине евроазиатского континента письменность освоили довольно поздно, потому документов и скопилось меньше. Там — больше во много раз. Зато они там раньше нас покрыли все мраком таинственности и неизвестности, предав это все молчаливой безгласной бумаге... Вот я и пишу о Дальнем Востоке, раскрываю глаза на тайны, скрытые иероглифами и прочим... Такая уж у меня судьба.
— Твоя судьба — я, — было сказано в ответ за неделю до расставания.
Банальная история о наивных, никак не старящихся бродягах: он родился слишком рано, она — слишком поздно. Ничего не объясняющие слова, которые, однако, вызывают чесотку на душе. Но почему последняя любовь, если это любовь, а не суета перед закрытием ворот, так сильно болит? Потому что ближе к закрытию ворот?
Бэзил потянулся к Походной сумке, вытянул пенал с лекарствами — таблетки новокаина от болотной лихорадки, витамин, дающий коже запах, отпугивающий москитов, тетрациклин, пластырь, бинты, йод... Снотворного не находилось. Может, в чемодане? На несколько дней брать его не хотелось, остался у знакомого заполошенного атташе в посольстве.
Перед отъездом в секретариате ему передали там телеграмму от шефа из Москвы: «Материал получили стоп удивляюсь молчанию раньше стоп поездку север разрешаю стоп коснитесь усилий выступающих крпг дрык диалогов стоп приветом».
— Кэ-рэ-пэ-гэ, а также, конечно, самое главное дэ-рэ и в особенности ык, — сказал Бэзил себе.
Корреспонденцию о положении в экономике пришлось готовить на одних наблюдениях. Убийство Пратит Тука вызвало разговоры и слухи на текстильных комбинатах и транспорте, рисовых складах, консервных заводах. Официальные лица отвечали вежливыми отказами на просьбу о встрече, не желая оказаться первыми в комментировании путаной обстановки и обсуждении туманных дел хозяйственных корпораций. Неосторожное слово вызывало в этой стране непредвиденную цепь неожиданных последствий. А завершения следствия по делу о гибели профсоюзного лидера, явившейся не просто уголовной сенсацией, хотелось дождаться, каким бы ни оказались результаты. И Бэзил хитрил. Отправив корреспонденцию, ради которой приезжал, попросил разрешения остаться, съездить на север, чтобы сделать «в загон» еще одну. Шеф слишком хорошо представлял условия, в которых работали корреспонденты его отдела — развивающихся стран, то есть тяжелых климатически и неуютных политически, чтобы не догадаться, что Бэзил зачем-то специально тянет время.
Теперь, глядя в окно, в котором ничего не виднелось, кроме отражения зеленоватого света ночника, утопленного в нише, и раскачивающегося, как привидение, кремового пиджака японца, Бэзил думал о шефе, одна из обязанностей которого состояла в том, чтобы у его людей в командировках не возникало сомнений относительно «тыловой» необеспеченности порученных заданий. Бэзил как никогда оценил эту заботу во время марша вьетнамских войск на Сайгон весной семьдесят пятого, в изнуряющие дни «освобождения» этими же войсками Пномпеня в январе семьдесят девятого и полные паники недели вьетнамского отступления под «ударом возмездия», нанесенным китайцами в марте того же года. Московские газеты приходили раз в месяц, и Бэзил разрывал желто-серые бандерольки, волнуясь: что опубликовали? Печатали все. Иногда по телефону доносились искаженные расстоянием жесткие интонации шефа: «Опаздываешь. Твой портрет прикажешь ставить на пустом месте в газете?»
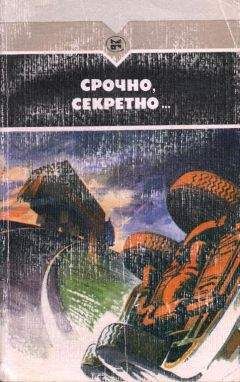
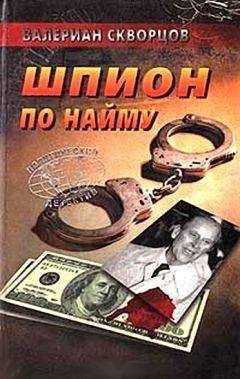
![Росс Томас - Смерть в Сингапуре [сборник]](/uploads/posts/books/13740/13740.jpg)