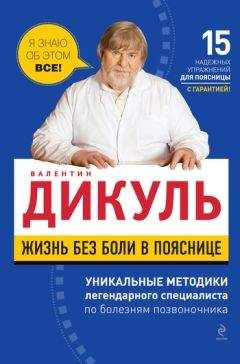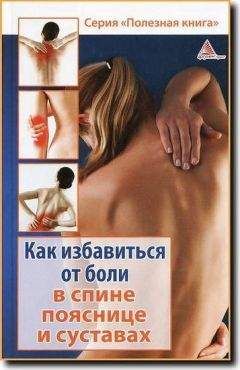Ростислав Соломко - Жизнь? Нормальная
— Что слушаем?
— «Гугенотов».
12
Наша группа у памятника Руставели.
Перед нами — строгий грузин. Один.
Это наш экс…курсовод? (Не люблю этого слова: слышится что-то курино-птицеводческое).
Мы молчим, и он молчит.
— Извините, вы наш гид?
— Экскурсовод.
Молчание.
Потом молчание с недоуменьем, потому что долгое.
— Вроде бы наши в сборе… Начнём?
— Вы начнём.
— ?
Гид показывает на меня:
— Пуст атайдет.
— ?
Мне:
— Па-апрашю.
Непонятно. Экскурсанты таращатся.
— Почему?… Почему он должен отойти? — кудахчет кто-то.
— Мэстный.
«Курам» весело:
— Да наш это, наш!
Гид молчит, попал впросак.
— Ну чего все вы ржёте? — спрашиваю Машу, подсаживая её в подошедший автобус. В дороге Маша передаёт мне из сумочки зеркало.
— Ты только посмотри на себя!
Что-о?!. Мне подбрили усы по-грузински!
Мне тоже становится весело!
Наш экскурсовод, кстати, оказался знающим гидом.
Он стоит сейчас под солнцем в святом месте Грузии, её Пантеоне. С хрипловатой патетикой ведает нам о славных своих земляках: о Давиде Гурамишвили, об Акакии Церетели, о Нине Чавчавадзе и русском поэте Грибоедове…
Мы снова в автобусе. В этой громыхающей развалюхе, где гида почти не слышно, радиотехника не работает.
Ух, как тряхануло!.. Вот тебе и ремонт дороги!
13
С неудовольствием я кивнул Лукерье Ивановне, нашей туристке, оказавшейся рядом со мной в кресле. Румяная, полная и глупая, она снискала себе репутацию сплетницы. Теперь, как пить дать, этот шаг нашего сближения с Машей дойдёт до Веры и Рушницкого.
А какова Маша-то!
Я смотрю на сцену — через паутинку её кофточки. Микронная ткань — вот, если хотите, прогресс нашей цивилизации! За такое чудо фараонша отдала бы десять тысяч и ещё одного раба.
Нет, будем смотреть оперу.
Меломаны, кажется, говорят — «слушать»?
Не пойму, почему это лучше.
Итак, которые же здесь гугеноты?
— «Гугеноты» — это Варфоломеевская ночь?
— Исключительно правильно, — отвечает Маша. Оставим на её совести этот иронический укол и будем смотреть «Гугенотов».
Сейчас на сцене, кажется, возникает конфликтная ситуация. Противоборствуют стороны: толстый грузин, в дальнейшем именуемый Манрико, и плохо причёсанная и очень подвижная старуха, которую почему-то принесли на носилках.
Когда конфликт, главное — точность.
— Как зовут старуху? — спросил я шёпотом Лукерью Ивановну.
— Какуя?
— Боже мой, на сцене всего одна старуха!
— Котора ему оспаривает? — уточняла Лукерья.
Тем временем, отчаявшись найти пути к соглашению,
Манрико занёс над своей грудью смертоносный нож. Зал замер. Умолк оркестр. Мне показалось — выронив палочку, дирижёр закрыл лицо руками. И в это вот самое время раздался верещащий, назойливый треск моих наручных часов-будильника. Конструкция не предусматривала возможности останова; технические условия на изделие определяли длительность сигнала в 30 секунд. 30 секунд — это то время, за которое боролась техчасть завода и за которое можно было теперь вспомнить всю свою жизнь, полюбить её и возненавидеть.
Манрико выронил нож и смотрел на меня, как на своего спасителя.
Вместе с Манрико на меня смотрели: осевшая на носилки старуха, дирижёр, привставшие со стульев оркестранты, девятнадцать капельдинеров и одна тысяча девяносто очень разных зрителей.
Часы отверещали точно полминуты.
Красный от смущения, я мысленно составлял текст телеграммы 2-му часовому заводу…
После спектакля были: фуникулёр, гора Мтацминда, огни Тбилиси, колесо обозрения, собачий холод, весёлый голод.
И — дальше на юг.
Поездом. Не фирменным. Не скорым. Пассажирским.
14
На газетном киоске табличка:
«Вас обслуживает киоскёр Сара Григорьевна Маматкадзе».
Я обратился к даме-киоскёрше:
— Сара Григорьевна…
— Я — Белла Григорьевна. Знает весь курорт. Вам нужна сестра? Так она уехала отмечаться за холодильник ЗИЛ.
— Извините, Белла Григорьевна. Мне «Правду» и «Спорт».
Белла Григорьевна лениво бросила медяки, предоставив нам самим забрать газеты в порядке самообслуживания.
Мы с удовольствием сошли с асфальтового островка со стеклянным маяком культуры. Приятно чувствовать под пятой чуть-чуть податливую землю! Этого у нас не понимают. Под тяжёлыми катками чёрное, каменное тесто неумолимо расползается по дорожкам парков и скверов. По серой лаве гулко, по-чужому, стучат каблуки.
Зачем это в кусочках городского леса?
Мало ли этих «почему». Пусть об этом пишут пенсионеры.
— Папиррэсы! Папиррюсы! Папирасы! Папирусы! — разрезал воздух крик словно бы какой-то экзотической птицы.
От неожиданности мы с Рушницким остановились.
— Амат! Уйди! Трещишь мою голову, — раздался раздражённый голос Беллы Григорьевны.
— Там твой торговый точка. Здэс мой торговый точка. Касса разный. Чего шумишь, сестра! — птичьим ломающимся голосом ответил ей сидящий у наших ног с набором папирос смуглый юнец. Он дал устрашающую дробь щётками по сапожному ящику, подбросил их и, как живых рыб, поймал в воздухе.
— Здэлаэм машина — вжжик Москва. Будем там торговый точка, — тарахтел предприимчивый мальчик, быстро наводя блеск на моих ботинках.
15
Ни гор, ни моря.
Шёл знаменитый многодневный Батумский ливень.
Бр-р… Третий день мы в компрессе из влажной одежды и в плену стеклянной читальни, дощатой веранды, фанерного клуба.
— Ч-чёрт! Надоело надевать одну и ту же сорочку. Абсолютно чистый воротничок.
— Ещё бы! Какая же пыль в стерильном потоке?
— Помните Маяковского: наш дождь — это воздух с прослойками воды…
— Нет, если и завтра так — уезжаю.
— Смотрите-ка! Библиотекарша лепит объявление!
На ватмане лесенкой:
«Завтра вечером после ужина
в клубе
ПЕВЕЦ И ГИТАРИСТ ДАВИД ГАСБИЧАДЗЕ!
Билеты приобретайте в библиотеке».
16
Я уже лежал под одеялом, а Рушницкий всё ещё искал наилучший вариант укладки своих чесучовых брюк под тюфяк, чтобы обеспечить себе «стрелку» на завтра. Затем он сел на кровать, свесив ноги.
— Слыхали? — спросил он. — Про Кулича?
— Нет. А что? Списали с корабля? С сигналом на работу?
— Сенсация: спас долгожительницу. На повороте. У столовой. Кинулся на бабку, как вратарь в дальний угол, и вытащил из-под самосвала. Невредимой!
— Это с одной-то рукой?
— Парень, видать, быстро соображает!
— Почему вы называете Кулич, а не Кулич?
— Он на этом настаивает. Мне всё равно, а ему большое удовольствие.
— А кто он?
— Он-то? Бывший пограничник.
Рушницкий не ложился. Я смотрел на него. Не ему в глаза, а на его тело, которое подпирали тощие ноги. Крепкие, как тросы. Скрученные из жил, сухожилий и самых необходимых мышц. Цепкие. Волевые. С сухими стопами и клавишами пальцев.
Не глаза, не лицо Рушницкого были зеркалом его души, а именно ноги.
Они беспощадны.
Такого опасно раздразнить.
— Николай Иванович. Не будем тушить свет?
— Давайте. Я тоже хотел поговорить.
— Николай Иванович. Давайте в духе разрядки. Давайте о себе. Вы инженер?
— Вот уже больше тридцати лет.
— Служба интересная? Работа инженера?
— Работа инженера? Я не знаю, что это такое,
— Опять парадоксы. Вы давайте по-простому, по— рабочему.
— Какие ещё парадоксы? Ни единого дня я не работал инженером.
— Позвольте, — смутился я. — Вы переквалифицировались?
— Нет.
— Опять эти ваши штучки-дрючки… Так кем же вы работаете?
— Инженером.
— М-да… Спокойной ночи, — повернулся я к нему спиной.
— Не заводитесь. Слушайте.
Я заинтересованно повернулся к нему снова.
— Больше тридцати лет я что-то достаю, выбиваю, нападаю, защищаюсь, заседаю, открываю и закрываю двери, иногда хлопаю ими, ругаюсь, «расшиваю», мне приказывают, я приказываю, разговариваю, кричу, и всё по телефону, подписываю, выписываю… Это работа инженера? Вы понимаете, что это нелепо? Ну так, как, скажем… ходить в баню в цилиндре. Это — жизнь инженера? Значит, я проживаю нелепую жизнь! А ведь я должен был бы быть мозгом, так сказать, техническим «гением» на своём участке…
— Вы — как все.
— Как все… Нивелировка? Да, это беда нашего века.
— А может быть, благо? Когда президент и рабочий одеты одинаково, это лучше, чем дворцы помещикам и хижины крестьянам.
— Крепостные, строившие церкви и дворцы, работали не на помещиков, а на русскую культуру, — без запальчивости заметил Николай Иванович. — И я, если хотите, за усреднение, но на каком уровне?