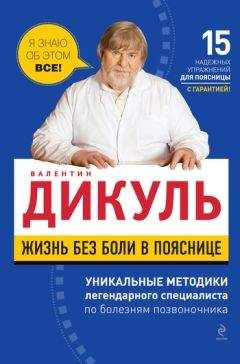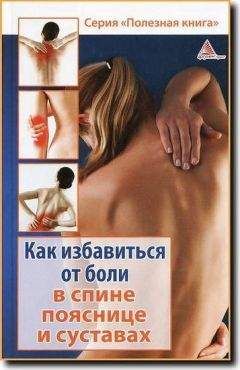Ростислав Соломко - Жизнь? Нормальная
И вздохнул:
— В прошлый раз больше всех надо мною смеялась Она…
Я дал себе зарок не паясничать, изображая спортивного комментатора на площадке турбазы. Мы сели на лавочку.
— Так что же было через семь лет? — спросил я Рушницкого. — Николай Иванович, ведь вы… холостяк?
— И старый.
— Почему?
Рушницкий повернул ко мне своё лицо закоренелого преферансиста и, как-то по частям, стал разглядывать моё.
— Вам зубы показать?
— Я думаю — можно ли с вами быть откровенным. Можно быть откровенным в двух случаях: с проверенным другом и со случайным встречным.
Случайным встречным был я. Быть случайным встречным, в этом, если разобраться, нет ничего обидного, но я почувствовал себя почему-то задетым.
— Ближе к делу, — произнёс я таким тоном, чтоб стало непонятно, обижен я или нет.
— Это не простой вопрос. Чтоб на него ответить, нужно вспомнить всю свою жизнь. Я не буду этого делать, — сказал Рушницкий, заметив мой испуг. — К женщине, прежде чем она станет вашей женой, нужно предъявить немало требований, как к машине. Многое, очень многое нужно взвесить.
— Что же именно?
Ответа не последовало.
Я посмотрел на Рушницкого. Он сидел без каких— либо признаков жизни с закрытыми глазами.
Я уже видел его таким.
Рушницкий был самым старым в нашей туристической группе. И его поместили не в палатке, а в доме, в комнате на двоих. Своим соседом он избрал почему-то меня.
В общем-то Рушницкий был прекрасным компаньоном. Даже не храпел; он «пфукал». Когда он переставал пфукать, я просыпался, как пассажир на остановке. Было страшно, потому что становилось тихо. Не зажигая света, я видел такое же болезненно-бледное лицо.
— Николай Иванович, вам плохо?
— Мне никогда не было хорошо, — совершенно без юмора отвечал Рушницкий.
— Так какие же технические требования нужно предъявлять к своей будущей жене? — повторил я вопрос.
Рушницкий поморщился.
— Не надо называть мой опыт техническими условиями на серийную жену.
— Но обо всём этом можно говорить только шутя.
— Нет, только серьёзно. — И неожиданно добавил: — Страшная вещь — идолопоклонство.
— Что значит идолопоклонство?
— Поклонение идолу.
— Николай Иванович! Ведь мы договорились — серьёзно.
— Идол многолик, — Рушницкий открыл глаза. — Первый респектабельный муж. Второй респектабельный муж. Он якобы беспомощный и неприспособленный, которого вашей жене по-человечески жаль. Или это оболтус пасынок, доставшийся вам от одного из этих респектабельных, — вдруг озлобился он. — Или нездоровая какая-нибудь идеология. Хобби, которое вы не переносите. Квартира, которую почему-то нужно менять. Довольно с вас примеров?
Рушницкий внезапно прервал себя и посмотрел на часы.
— Григорий Александрович, займите мне место. Мой талон на ужин…
— Вот этот, — помог я ему разобраться в куче серых бумажек с печатями.
8
Когда Рушницкий исчез за поворотом аллеи, я встал и не торопясь пошёл в сторону столовой.
Опиленные чуть ли не до стволов деревья напоминали исполинские кактусы. Пустая аллея выглядела почти мексиканской.
Навстречу мне шла женщина в розовом.
Сумочка в её руке висела, как фонарь.
Я встал на её пути.
— Извините, — почти столкнулась она со мной.
— Ничего. Мне кажется, что в руках у вас не сумочка, а Диогенов фонарь. Вы, наверное, разыскиваете умного человека, с которым можно поговорить.
— Может быть.
— Поздравляю вас. Вы его нашли.
— Я… сомневаюсь в этом. Умный человек не может быть самодовольным.
— Это напускное. От отчаяния.
— Так бывает с застенчивыми? — иронично заметила она. — Давайте я вам помогу.
— В чём?!
— Стать раскованным.
Я упускал инициативу.
Мы сели на лавочку.
— Начнём с того, что на этот раз успеха у вас не будет.
— Обескураживающее начало.
— Затем… (она немного подумала) попробуйте отнестись ко мне с уважением. Без обидной снисходительности, — добавила она.
— Попробую. Но ведь я не знаю вас!
— Браво. Вы начинаете думать. Ещё, правда, несмело. Давайте я опять помогу вам.
— Очень интересно.
— Вы не знаете меня. Вот именно поэтому вы и должны отнестись ко мне с уважением.
— Вы хотите сказать, что при нулевой информации предпосылок к уважению столько же, сколько и против? Пятьдесят на пятьдесят?
— Не совсем. Сейчас я узнаю — добрый вы или нет.
— Я добрый и выбираю вариант с уважением.
— Да вы умница!
— Я же сказал вам об этом с самого начала.
— Ой, — поморщилась она. — Вы опять испортили о себе впечатление.
Она на мгновение стала серьёзной.
— Давайте помолчим.
Оказывается, парк населён звуками. Репродуктор объявил исполнение вагнеровских «Валькирий». Засвистел симфонический ветер, властно зазвучали тромбоны.
— Как вы относитесь к Вагнеру?
Глазами она вновь попросила меня замолчать.
Когда отревел финал, сказала, чуть извиняясь:
— Я совсем не музыкальна. Когда я слушаю «Валькирий», я всё, наверное, воспринимаю неправильно. Я не знаю толком немецкой мифологии. Но я вижу!
— Что?
— Как бы вам объяснить… Подвижную картину, серую, как в кино. Массивные, грузовые кони — можно так сказать? — тяжело мчат монументальных всадниц, только что покинувших пьедесталы. Всполохи света вырывают из снежной мглы то рогатый шлем, то мощные бицепсы, то могучую грудь, полуприкрытую шкурой. Все целеустремлённо, подчинено року. На лице женщины, она ближе ко мне, окаменелая решимость. У неё лицо карательницы, такое же, как на памятниках…
— А что вы чувствуете?
— Что я чувствую? Это трудно сказать. Меня охватывает неясная тревога, вернее, я заражаюсь ею, потому что всё здесь пропитано страхом за что-то…
— Вы меня поразили! Совпадением. Я вижу и чувствую примерно то же самое, но я не смог бы рассказать это связно.
— Вы радуете меня. Не похвалой — искренностью, с которой вы это сказали. Вот так и надо!
Она с благодарностью взглянула на меня.
— Конечно, надо быть искренним. Толстой говорил, что и произведение искусства обязательно должно быть искренним, — чувствуя, что подлаживаюсь и фальшивлю, заметил я.
Надо быть… — с грустинкой повторила она. — Не надо быть. Когда человек здоров, он не чувствует своего тела. Искренность должна быть… искренней.
Осёл! В человека нельзя обращаться так быстро.
Мы помолчали.
— Меня зовут Григорий Александрович. А вас?
— Марья! Ма-ша! А ну, питаться. Живо, ножками! — из глубины неожиданно прогудело нежное контральто.
— Пошла ужинать. Ксения Ивановна у нас старшая по комнате, строгая. Боюсь, — улыбнулась Маша, вставая.
Через пятнадцать минут и я был в столовой. Маши, как я и рассчитал, уже не было.
— Сюда! — услышал я несколько панический призыв Рушницкого из очереди у раздачи. — Давайте талоны. Понадейся на вас!
Рушницкий работал, словно пассажир у железнодорожной кассы, пробиваясь к неласковой девушке с поварёшкой. На его лице было то лихорадочное возбуждение, которое можно наблюдать только у тотализатора.
Не доверяя мне, он ответственно пронёс на стол две тарелки гречневой каши с рыбой.
— Ну а теперь рассказывайте, пентюх, что там с вами стряслось.
Мне не хотелось рассказывать Рушницкому о встрече. Выручил «пентюх». Я молчал, давая понять Николаю Ивановичу, что он перешёл границы дозволенного.
— Я не смогу сегодня провести вечер с вами.
Рушницкий виновато ел кашу.
— Мне нужно встретить московскую знакомую, которая присоединится к нашей группе.
Этой правдой я смягчил вину Рушницкого.
— Чёрт с вами, — впал он сейчас же в свой обычный тон, тон неоспоримого лидера в нашем дуэте.
9
Встречающих на перроне было мало, и он просматривался на всю длину.
Если Веры не будет и сегодня, ей придётся догонять нас на маршруте.
Что её задерживает?
И кто «третий»?
Ладно, всё должно выясниться — я посмотрел на часы — через восемнадцать минут.
Рушницкий…
Я вдруг понял, что смеялся над Рушницким в эпизоде с кашей, рыбой и «пентюхом», И осудил себя.
Цивилизацию относят к эпохе. Но и современники находятся на разных ступенях цивилизации.
Как мы с Рушницким, например. Мир и картина бытия представлялись нами в общем-то согласно. В частностях мы сильно расходились. А споры опять сближали.
Упаси нас, господи, от тотального единомыслия!
Что же всё-таки, к невыгоде Рушницкого, нас различало?
Возраст.
Приспособляемость. Я мог общаться со всеми, Рушницкий — только с людьми своего круга.
И ещё одно обстоятельство ставило его в зависимое положение: у старика Рушницкого практически только со мной был «пропуск на двоих» в молодое женское общество.