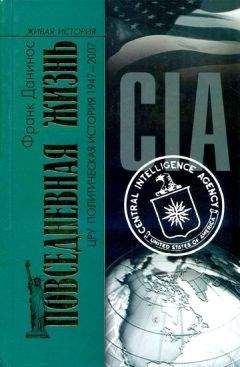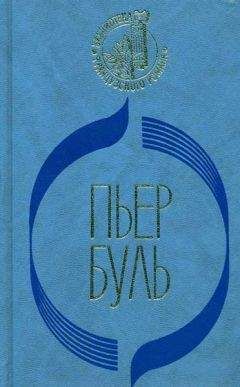Пьер Данинос - Записки майора Томпсона
— А почему бы тогда не Рюд?
Я прекрасно понимаю, что одни и те же предметы вызывают различные эмоции у различных индивидуумов. Я знаю даже, что ничто так не веселило Шопенгауэра, как созерцание равностороннего треугольника (в этом, вероятно, и был его снобизм). Но я вынужден признать, что по сравнению с людьми, которые обнаруживают «отчаявшуюся чувственность» в шестиугольниках и остаются равнодушными при виде Венеры Милосской, я нахожусь на крайне низком уровне.
Впрочем, чтобы убедиться в том, что моя столь старомодная потребность понимать является неопровержимым признаком мещанства, мне даже незачем теперь обращаться к специалистам. Тереза первая клеймит меня за это позором. Может быть, на нее тоже снизошла благодать абстракции? Она страстная поклонница не только абстракционизма (впрочем, теперь заговорить об абстрактном искусстве или об экзистенциализме — значит сразу же выдать свою отсталость; слово это употребляется только подобными мне простаками), но и ташизма. Она на все готова, лишь бы только не отстать от своего времени. А главное — от современных вкусов! Она читает специальный журнал «Глаз» и буквально молится на молодого Пиччоло, начинающего ташиста, который, по ее словам, предельно высоко котируется и с которым, во всяком случае, никто не может поспорить в умении посадить на полотно горстку толченой яичной скорлупы. Я просто не в силах понять, как могла такая здравомыслящая женщина, как Тереза, потерять свой здравый смысл из-за подобной бессмыслицы! Но факт остается фактом: обе прелестные картины, в манере Буше, висевшие над нашей кроватью, уступили место черному как сажа месиву, где Тереза в зависимости от часа и настроения видит то кратер действующего вулкана, то маяк Уэссан, то Мулен-Руж под дождем, а то и внутренности морского ежа. (Конечно, подобные экстраполяции немыслимы с купальщицами Буше, которые, в каком бы настроении вы ни находились, так и остаются купальщицами.) Лично я различаю лишь язычок огня и в левом углу щепотку пресловутой яичной скорлупы — фабричная марка желторотого художника. Впитав в себя весь словарь «посвященных», Тереза дошла до того, что стала говорить о самовыражении и творческом взрыве. И всякий раз, когда, подстегиваемый этим проклятым желанием понять, я взрываюсь, она восклицает:
— Ох, и сидит же в тебе мещанин!
— Ну и что? А кто же мы, по-твоему?
— Нашел чем кичиться!
А я и не собираюсь кичиться. Но подумайте сами, что стало бы со всеми этими абстракционистами, летристами, ташистами, попартистами и прочими сюрреалистами, если бы не было добропорядочных мещан, которые с закрытыми глазами покупают их продукцию? Добропорядочные мещане привыкли возмущаться эксцентричностью Пикассо, они утверждают, что он издевается над людьми. Но кому же обязан Пикассо своей славой? В первую очередь тем же добропорядочным мещанам.
7) Их словарь
Все, что окружает вас, может быть либо великолепным, божественным, замечательным, самозначимым, потрясным[209], поразительным, сногсшибательным, впечатляющим, поистине сенсационным, гипопотически прекрасным, либо отвратительным, убийственным, бесцветным, немыслимо пошлым, нелепым, ничтожным, наводящим тоску, чудовищным, гнусным. Между восхвалением до небес и низвержением в пропасть ничтожества середины, видимо, нет. В наше время все эти эпитеты употребляются в таком количестве, что их запасов становится явно недостаточно и язык не в силах удовлетворить спрос. Что смогла сказать эта расфранченная дама о миллионах мучеников, отправляемых в запломбированных вагонах в газовые камеры? «Это чудовищно!» А что сказала она сегодня, когда скрежет колес помешал ей выспаться в спальном вагоне? «Это было чудовищно!» И если ей будет душно в каком-нибудь кабачке, простите, в night club, ночном клубе, она обязательно воскликнет: «Я там чуть было не умерла!»
Преступление чудовищно, женщина чудовищна, шляпа чудовищна. А всеми этими эпитетами — потрясающий, божественный, чудесный — обычно определяются вещи, в которых большинство простых смертных не углядит ничего сногсшибательного: букет анемонов, запонки, рыбацкий поселок (лишь бы он был не слишком известен). При виде какой-нибудь газовой цистерны неплохо воскликнуть: «По-моему, это прекрасно!» Но, глядя на Неаполитанский залив или Парфенон, лучше всего промолчать или обронить, что все это сильно преувеличено.
Исключение в этой галерее славословий и уничижений составляет слово «потрясно». Сказать о человеке, что он очень умен, банально: все умны; «очень» будет лишь означать, что он не глупее прочих, «он гениален» звучит куда более внушительно. Я наблюдал за тем, как один господин выражал свой восторг на вернисаже. «Это ве-ли-ко-лепно!» — произнес он перед одной картиной. «У-ди-ви-тель-но!» — перед другой. «Космически!» — остановился он перед третьей. (Следует запомнить.) Но, желая выразить максимум восхищения, он воскликнул: «Вот это… потрясно!»
Следует обратить внимание на категоричность их стиля. Книга, пьеса, художник, любой человек в мгновение ока получают ту или иную оценку, поднимающую или уничтожающую. И для этого совершенно не обязательно прочитать, увидеть или услышать. В разговоре о какой-нибудь известной актрисе, вместо того чтобы высказывать свое мнение о ее игре или дикции, лучше сообщить, что она живет одна в деревне под защитой четырех догов. Кто из искушенных рискнет заявить в разговоре о Пикассо: «Мне больше нравится его голубой период». Куда лучше рассказать, что последняя вдохновительница его полотен не ест ничего, кроме рахат-лукума. Если же разговор затянется, можно без колебаний употребить несколько фраз, явно бессмысленных, но звучащих весьма внушительно. Так, в моем присутствии об одной писательнице было сказано: «То, что она пишет, довольно сносно, но как бы вам это сказать… у нее всегда… немножко передержка… или же чуть недодержка… Ну… вы понимаете, что я хочу сказать?» И попробуйте поймите, что он хочет сказать! В большинстве случаев все это абсолютно ничего не говорит, но зато тон, и хороший тон. А этого достаточно.
8) Абракадабра высшего тона
Все эти люди разговаривают невероятно быстро: ведь им столько надо успеть сказать, — а если говорить нечего, то существует столько способов поговорить, ничего не сказав. Бывают моменты, когда слова, подобно ходкому товару, не задерживаются у них на языке, им просто не хватает времени — и это вполне простительно — связывать свои фразы и обращать внимание на какие-то мелочи. И понятно, что они выбирают кратчайшие пути вроде: «Вам ясна моя мысль? Ведь так?» Сопровождая свои слова резким, нервным движением руки, щелканьем пальцев, а иногда и гримасой, они избавляют собеседника от всех излишних объяснений — конечно, если имеют дело с человеком своего круга, — и дают ему возможность перевести дух в ожидании нового потока слов. Есть люди, как, например, господин Штумпф-Кишелье, у которых это псевдовопросительное, но не содержащее в себе вопроса «Ведь так?» (поскольку предполагается полная поддержка со стороны собеседника и отметается даже самая слабая попытка возразить) превратилось в своеобразную манию и возникает в конце любого предложения, иногда даже в сочетании с «нет». «Как это некрасиво, ведь так, нет?» — фраза выпаливается с еле заметным оттенком иронии и некоторой долей вульгарности, следует понимать: «Все и так ясно!»
Нет никакой необходимости уточнять свою мысль. Хотя выбор у них достаточно богат, в их распоряжении множество средств. Но к чему они? Можно обойтись и без них. И без того все вполне ясно. Ведь так? А те, кто не понимает, не стоят, право, того, чтобы им разъясняли.
Но среди тех, кто умеет говорить бессвязно, так же как и среди тех, кто четко выражает мысли, есть свои непревзойденные мастера. Я хотел бы здесь воздать должное графу Рьесеку, благодаря которому я как-то вечером окунулся в бурлящий словесный водоворот. От природы довольно застенчивый, он принадлежит к той категории людей, которым придает смелость звук их собственного голоса. Если за столом оказываются хоть один или два известных краснобая, он во что бы то ни стало старается первым сняться с якоря, прекрасно понимая, что упусти он момент, и весь вечер он будет чувствовать себя скованным и не сможет уже пуститься в плавание. Этот тип робких смельчаков приводит меня в восхищение. Как раз в этот вечер у него были опасные соперники, Марсель и Жан, и потому, не успев переступить порог гостиной, он сразу же залился соловьем. Уму непостижимо, чего он только не коснулся в этот вечер, начиная с англо-бурской войны и Фашоды и кончая Брижит Бардо и межконтинентальной ракетой, при этом он не забыл остановиться на порядках, существующих в Гранд-Опера, поговорить об Общем рынке, Ротшильдах, охоте, новых бистро, девальвации, последнем лауреате Гонкуровской премии, Идеи Роке, скачках — буквально обо всем на свете. Едва ли смогу я здесь восстановить хотя бы каплю того потока слов, который возник из легкого покашливания — мастерского приема, вполне уместного, когда разговариваешь с гостями, стоящими ниже вас на общественной лестнице.