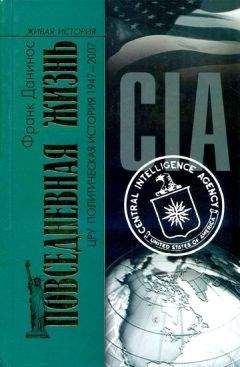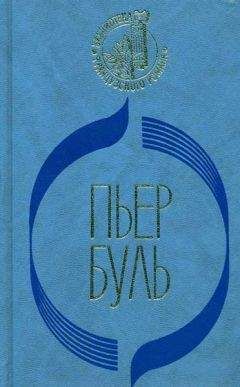Пьер Данинос - Записки майора Томпсона
— Да, пожалуй, Малагу, — согласилась дама. — Но дорога ужасно утомительна! Ох, эти испанские спальные вагоны, вы даже не представляете себе, дорогая Мирей, какие там жесткие диваны! А потом их кофе…
— Кофе? — удивилась маникюрша.
— Да, кофе, я органически не выношу испанский кофе. Когда я езжу туда, я всегда беру с собой запас «нескафе». А в последний раз позабыла. Как же я мучилась! Если бы вы только знали!
— Ну, в таком случае, Канны… Госпожа Дальсид, она была здесь утром, только что оттуда вернулась… Погода стояла чудесная.
— Так всегда говорят, когда вы собираетесь на юг. Но стоит мне туда приехать, как сразу же начинаются дожди. А потом на юге сейчас полно каменщиков, и все это итальянцы… Там слишком много строят. В общем… И при этом у меня без толку пропадает имение в Турени!
Мирей, с грустью подумав о пропадающем без толку имении в Турени, на минуту опустила пухлую руку госпожи Понте-Массен. Но тут же снова взялась за щипчики.
— Я пополнела, это просто ужасно! — сокрушенно воскликнула госпожа Понте-Массен. — Посмотрите на мои руки. (Она высвободила свои унизанные дорогими перстнями пальцы.) Смотрите… Попробуйте-ка снять это кольцо, Мирей, попробуйте! Тащите… Смелей! Тащите же! Не бойтесь! (Мирей попыталась снять перстень с изумрудом, но, конечно, безуспешно.) Вот видите! Снять его можно, только отрубив мне палец (самодовольный смех)!
Мирей с удовольствием отрубила бы этот палец и заодно прихватила бы еще парочку. Она представила себе, как возвращается домой в Нуази-ле-Сек с этим перстнем. Такого рода мысли возникают иногда в головах маникюрш, но сразу исчезают, конечно, если эти маникюрши не сошли со страниц романов Достоевского.
— Как бы там ни было, — вздохнула дама, — март, уже решено, мы проведем в Швейцарских Альпах.
— Ах, там, вероятно, очень красиво, мадам! Госпожа Ривьер ездила туда на Рождество и вернулась в полном восторге!
— Да, там неплохо. Но что поделаешь… Пройдет неделя, пока акклиматизируешься… и только привыкнешь… А как раз двадцатого гостиницы закрываются. Невероятно! Как только мы не убеждали директора: «Не закрывайте хотя бы до тридцатого!» Нет, право! А то получается такой разрыв между двадцатым и тридцатым. Не знаешь, куда себя девать. Люсьен предлагает: «Съездим на Канарские острова». Но опять эти Канарские острова!
Мирей, должно быть, и в голову не могло прийти, что на свете есть люди, которым осточертели Канарские острова.
— В этом году, уж не знаю почему, меня тянет в Ливан. Но муж считает, что время неподходящее. Хорошо, что он сказал мне об этом. Я никогда не бываю в курсе международных событий… Впрочем, и не удивительно: я никогда не читаю газет. Ужасно они грязные. От них только и остается, что следы на руках (новый взрыв смеха).
— Прошу вас, опустите пальцы в воду, мадам.
В салон вошла молодая красавица.
— Это подруга господина Л., знаете, заводы шампанских вин… — прошептала Мирей.
Госпожа Понте-Массен окинула вошедшую придирчивым взглядом.
— Сколько же ей лет? Бог мой, до чего же худа! Я бы с ней фигурой не поменялась!
Краска, лак. Все. Готово. Пожалуйста, в кассу. Сколько с госпожи Понте-Массен? До свидания, госпожа Понте-Массен. Мирей проводила клиентку до самой двери. Лил дождь. Госпожа Понте-Массен пожаловалась на ревматизм. Увидев Жозефа, ожидавшего ее с фуражкой в руке около черной с кремовым верхом «бентли», она успокоилась.
— Ах, умница Жозеф! Как удачно он поставил машину. В такую погоду да еще шлепать по лужам, отыскивать свой автомобиль… Вот так я и простудилась на днях. У вас хотя бы есть здоровье, а это главное! Ну что ж, Мирей… у каждого свои горести, но… есть люди куда несчастнее нас!
6) Врожденная склонность к абстрактному искусству
Признаю, к своему великому стыду, что среди всех моих пробелов непонимание абстрактного искусства — один из самых непростительных. Глядя на все эти разноцветные, а иногда и белые на белом же фоне прямоугольники, на эти черные мазки, на фоне которых вдруг вспыхивает красное яйцо, на это непонятное месиво, где при желании можно увидеть и залитые дождем поля, и гидравлический завод, и парижскую улицу, если по ней мчаться со скоростью 200 километров час, и берег моря — на все то, что исторгает у эстетов восхищенные возгласы: «Поразительно!», «Восхитительно!», «Какая самобытность!», я молчу, так как ровным счетом ничего не понимаю. Это серьезнейший, непоправимый изъян, тяжелый порок, от которого, очевидно, мне никогда не избавиться, и причина — в моем мещанском нутре. Читаю ли я какую-нибудь фразу, смотрю ли на картину, первое мое движение — понять их смысл. Я всегда старался понять. Может быть, это и есть мещанство? Теперь я почти в этом уверен, тем более что все знатоки, которым я каялся в своей патологической потребности, разъясняли, что это подлежит лечению.
Вот граница, которая отделяет меня от мира искусства. Я словно путешественник, не имеющий визы; иммиграционная служба абстракционизма посадила меня в карантин до тех пор, пока я не излечусь от желания понять… Я завидую бесчисленному множеству людей, которые в этом непостижимом для меня мире, куда мне, вероятно, никогда не удастся проникнуть, упиваются первородным звучанием слов, непроизвольно слетающих с языка, наслаждаются хаотичными мазками на полотне, а то и просто подтеками бездумно выплеснутой из ведра краски, не имея об этом ни малейшего понятия.
Да что я говорю! «Понимать не надо!» Только тогда и испытываешь подлинное блаженство, когда ничего не понимаешь. Свои восторги эти ценители черпают из тех же источников, которые питают мое разочарование, из того хаоса красок, по которому блуждает мой взгляд пещерного жителя, из всей этой путаницы, гризайля, неразберихи. Ну как не признавать мне их превосходства, если один вид каких-то двух кубиков, серого и зеленого, приводит их в такой же восторг, какой у меня вызывают произведения Микеланджело? Там, где я ничего не замечаю, они открывают для себя целые миры; те картины, которые ставят меня в тупик, для них не только полны стихийных наитий, но они видят там «особый почерк» автора, его «становление» и даже, как было написано в одном из пригласительных билетов на вернисаж: «Воспоминание в преломлении становления». Мне остается наблюдать, как они витают в этих возвышенных сферах, ведь сам я, вооружившись ватерпасом и угломером, делаю лишь первые робкие шаги в классе элементарного рисунка.
Недавно я еще раз убедился в своей абсолютной бездарности, когда, разглядывая какую-то странную грязную лужу (она могла бы быть и просто разлитыми чернилами), из которой высовывалась ножка кресла стиля Людовика XV, я имел неосторожность пробормотать:
— Но… что же это все-таки означает?
Ответ не заставил себя ждать:
— Но почему же вы хотите, чтобы это обязательно что-то означало? Разве это и так не звучит?
Вероятно, действительно есть вещи, которые и так звучат (например, те, о которых знатоки говорят: «Какая искренность!»). Но у меня недостаточно тонкий слух, чтобы уловить их звучание, и недостаточно зоркий глаз, чтобы разглядеть их неповторимость. Напрасно пытаюсь я проникнуться смыслом текста, украшающего пригласительные билеты на вернисаж: «Элия Казан просит вас почтить своим благосклонным присутствием рождение ясного и позитивного царства восприимчивости, которое определило у Зульмо Пиччоло художественный поиск большой экстатической взволнованности и мгновенной контактности», я невосприимчив к такого рода контактностям.
Но одному богу известно, как бы мне хотелось восчувствовать эти откровения. Как бы мне хотелось замирать от восторга перед каким-нибудь ромбом, откуда сверкает оранжевый зрак, или серым шаром, по которому плывут две черные точки! Но единственная мысль, которую это у меня вызывает: «Пожалуй, семилетний ребенок мог бы нарисовать что-нибудь в этом роде… а может быть, даже и получше…»
Заблуждение. Непростительное заблуждение, что бы вы ни увидели перед собой — квадрат, круг или кляксу, — ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не говорите: «И ребенок-мог-бы-нарисовать-нечто-в-этом-роде». Иначе вы рискуете сразу же прослыть безнадежным тупицей, провинциалом, неотесанным мужланом, человеком примитивным, одним словом (и в этом одном слове заключены все эти определения) мещанином. Обмещанившимся мещанином, он никогда ничего не поймет, особенно если речь идет о художнике, у которого «насыщенный антицвет, контрастируя с гладкой поверхностью, переходит в небытие или, быть может, в ничто».
Не так давно я обедал у Доберсонов и был свидетелем того, как моя соседка пришла буквально в экстаз при виде неправильного чугунного шестиугольника, водруженного на деревянном постаменте: в этом нагромождении металла, в этом подобии шлема, выкованного для чудища о шести носах, она усмотрела не только «отчаявшуюся чувственность», но и «ни с чем не сравнимый динамизм». Пораженная моим равнодушием, она даже спросила, что же тогда нравится мне в скульптуре. Я робко назвал ей Микеланджело, Донателло, Родена… Она посмотрела на меня, как на человека дотелефонной эры.