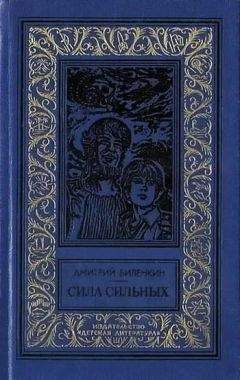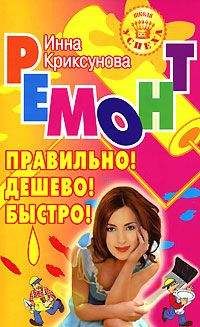Светлана Багдерина - Весёлый лес
– Но ты не имеешь права!!! Так нечестно!!! – отчаянно сжимая кулаки, взвыл студент, едва не бросаясь на упершегося, как бык на мосту, крестника. – Своим ослиным упрямством ты подводишь всех!!! Меня!!! Нас!!!..
– Послушай, Агафон, – уже чуть раздраженно глянул исподлобья на фея Лес. – Тебе надо – ты на ней и женись. На высочестве, то есть. На ее. А нормальным людям голову больше…
– Погодите, погодите… – прищурившись цепко, бросил умывание и поднялся на ноги шевалье, бесцеремонно прерывая почти семейную ссору. – Что означает «хорошо постарался со страусом и тыквой»?
– А отчего ты назвал волшебника «крестным», принц? – недоуменно сдвинула брови тетушка Жаки. – Он же тебе в братья годится!
– И разве крестные и крестники – это не обычай фей – покровительниц небогатых девушек? – недоуменно припомнил рыцарь.
– И я думала, что Агафон – это имя его высочества, а тебя звать Агафоникус, – перевела вопросительный взгляд на мага герцогиня.
– И что это значит – «тебе надо, ты и женись»?! – щеки принцессы под недосмытым слоем крови и грязи горели ярче костра, а глаза метали в пристыженно умолкших сообщников всё, что попадалось в поле зрения.
Чародей тоскливо выдохнул и уныло втянул голову в плечи, понимая, что и уворачиваться, и изворачиваться теперь бесполезно. Тупоголовый болван… Дубина стоеросовая… Олух деревенский… Хотя… если бы ему, Агафону, светило жениться на такой выдре, как эта коза…
Его премудрие сильно сомневался, что продержался бы в женихах дольше своего злополучного крестника.
– Я требую объяснений! – приказала принцесса звенящим то ли от гнева, то ли от нежданного оскорбления голосом – словно перчаткой по лицу хлестнула.[39]
– Да. Объясните, пожалуйста, молодые люди, насчет брака, – сухо глянула на дровосека герцогиня.
– И насчет брака – тоже, – похолодел и потяжелел взгляд де Шене, а пальцы непроизвольно сомкнулись в кулаки.
– Объяснить… – пришибленным эхом выдавил студиозус.
– «Объяснить, ваше высочество»! – брызжущим ядом тоном внесла поправку Изабелла, и печальный школяр скукожился еще больше.
– Объяснить…
А почему бы и нет? Что ему было терять? Какая, в пень горелый, разница, кто еще, кроме факультета фей, узнает эту идиотскую историю про Норму Дюшале и ее предприимчивую подружку? Всё равно из Школы его теперь попрут…
– Объяснить… – убито повторил студент, словно не помнил иных слов, вздохнул еще раз, и скучным-прескучным голосом начал: – Однажды самая старая фея, мадам Дюшале, была призвана своей давнишней приятельницей – деревенской молочницей – на родины к внучатой племяннице…
Когда Агафон завершил краткий пересказ предыдущих семнадцати лет и двух дней, колючие разящие вопросы посыпались на их с крестником головы, как залп целой армии лучников-снайперов:
– Значит, ты не принц?
– И даже не дворянин?
– И злонамеренно обманул герольдов?
– И меня?
– И нас всех?
– Оба обманули?
– И ты отдал ему свой титул?
– Отказался от своего рода?
– Ради чего?
– Чтобы тебя не выгнали из какой-то презренной Школы?
– Чтобы заморочить всем головы?
– Да я скажу отцу, и он разгонит ваш притон полоумных шептунов за пять минут!
– Вы часто хихикали за нашими спинами, молодые люди?
– Воображали, что вы – самые умные, да?
– А еще вы мошенничали на турнире при помощи магии!
– И свалили всё на другого!
– У этого другого есть имя, деточка.
– А мне глубоко безразлично, что у него есть, и чего у него нет, потому что ты видишь, тетушка, видишь – они все одинаковые!!! – взъярилась Изабелла и шагнула к снедаемому стыдом и раскаянием Лесли, исступленно сжимая кулаки, словно хотела ударить, излупить, измолотить нахального самозванца, мужлана, хама, да как он смел!..
Одно дело, когда отказываешься ты. Но когда отказывают тебе… да еще тот, кого считала карманной игрушкой, заводным солдатиком, чем-то раздражающим, но пожизненным и невыводимым, вроде родимого пятна…
Негодяй! Он за это поплатится!..
Лесоруб понурил голову, но не отступил.[40] Да если бы даже и было куда отступать – сейчас, когда с души у него впервые за два дня словно замок Гавара свалился, он был готов принять любое возмездие, претерпеть любое наказание, смириться с какой угодно карой. Обнаруженная вина – словно вскрытый нарыв: один раз больно, но заживет скорее, любила говаривать его бабка. Был самовлюбленным ослом – получай за это. «По мощам и елей», – еще одно любимое ее присловье.
Лесоруб глянул искоса, отыскал украдкой Грету – осунувшуюся, бледную, будто раненую, сверлящую взглядом загаженный грабастиками пол под ногами, вспыхнул, и торопливо опустил глаза.
По-хорошему, надо бы ей сказать, что он сожалеет, что виноват, что был дураком и подлецом, что своего ума нет – чужого не прибавишь… Но что из этого она еще не знала? По-хорошему, конечно, надо бы все равно… Пусть не простит. Пусть обругает. Пусть ударит. Он бы на ее месте, если бы после эдакого фортеля кто-то полез к нему извиняться и дружбы снова искать, так этому гаду врезал – через полдеревни бы летел кубарем… Надо бы, само собой, извиниться… Но стыдно ему было так мучительно, так больно, что даже посмотреть, не то, что приблизиться или заговорить, не мог найти он в себе силы.
Бедная Грета… Сколько она из-за меня перетерпела… Я бы на ее месте… я бы… я бы… Да и по отношению к Агафону я вел себя как последняя свинья… А он ко мне – как предпоследняя. Потому что последняя – всё-таки я…
– …Один распинался, что озабочен моим благоденствием и только поэтому залез к нам, подкарауливал у дворца, выслеживал, когда я пошла прогуляться, – меж тем звенящим от ярости ли, по иной ли причине, тихим ядовитым голосом принцесса выговаривала хлесткие слова, – в то время, как единственное, что его волновало – это его накрывшееся тыквой жениховство!
Полумрак подземелья притих, разнося над темной водой и под низкими сводами ее обиду и злость.
– Второй пыжился, изображая царского внука, бросил невесту… трех… глотал мои издевки и унижения… улыбался… пресмыкался… Ради чего? Ради моих красивых глаз? Ради моих добродетелей и успехов в вышивании и игре на флейте?
– Но ты так и не научилась толком ни…
– Да если бы даже и научилась!!! Тетушка, миленькая, ну как ты не видишь, что это не имеет никакого значения – умей я хоть ходить по потолку и превращать золото в алюминий – это! Ничего бы! Не изменило! Им не нужна я – им нужен мой отец! Его корона! Если бы они могли – они женились бы сразу на нем, да и дело с концом!
– Боюсь, ваше высочество ошибается, – почтительно, но твердо произнес Люсьен.
– Мое высочество не ошибается, потому что мое высочество не ошибается никогда!!! – рявкнула в ответ Изабелла, и под неистовым напором ее гнева, горечи и обиды де Шене отступил, словно от удара.
– Нет нужды так горячиться, Белочка, – успокаивающе взяла за локоть племянницу герцогиня, но та будто не слышала.
– А этот… сводник! Негодяй! Подлец! Горе-маг! Внук царя! Ничтожество, не достойное своего славного имени! – окатив ледяным презрением несостоявшегося жениха, двинулась принцесса на опасливо отступившего Агафона. В руке ее блеснул невесть откуда взявшийся бугнев кинжал.
– Ради того, чтобы его не вышвырнули из этой школы клоунов и фокусников, он презрел и опозорил честь своего дома! Выставил на посмешище свой род! Да знаешь ли ты, что по закону Жиля Седьмого за намеренный обман герольдов во время официального мероприятия полагается лишение всех титулов и имущества и десять лет каторги?! А что мошенничество на турнире при помощи волшебства карается смертью через повешение для дворянина и четвертованием – для простолюдина, как постановил еще Франсуа Пятый?! Ну, кем ты у нас сейчас будешь, царевич Агафон? Что выберешь – ты и твой крестничек?…
Студиозус автоматически пробормотал: «Лишение титулов, конечно, сдачи не надо», но прикусил язык и снова отступил под взглядом Изабеллы, излучающим мегаватты отвращения и презрения. Неожиданно спина его уперлась во влажную, покрытую зеленоватой плесенью стену и школяр растерянно замер и заозирался в поисках заступничества. Но всё, к чему притягивался его бегающий взор – это огромные, суженные в ненависти и презрении глаза обманутой, униженной принцессы.
– Тебе еще смешно? – процедила сквозь стиснутые зубы она, костяшки пальцев, стиснутых вокруг деревянной рукояти, побелели, словно лишь крайним напряжением воли удерживалась она, чтобы не воткнуть свой трофей в опального студента. Если бы желания были материальны, у горла злосчастного школяра сейчас бы застыл не кусок отточенного железа длиной в пару десятков сантиметров, а двуручный меч палача.
Чародей дернулся нервно, словно действительно ощутив прикосновение ледяной острой стали, физиономия его вытянулась, глаза умоляюще распахнулись. Когда его посылали на практику, никто не упомянул ни о чем подобном! Это нечестно! Это неправильно! Он думал, это игра, и феи на задании не должны беспокоиться о нарушении каких-то замшелых законов и уложений, не говоря уже о чокнутых принцессах с острыми ножиками! Они должны творить добро, нести чудеса людям, исполнять желания крестников, а если желаний нет – то придумывать вместо них, и тогда уже исполнять!