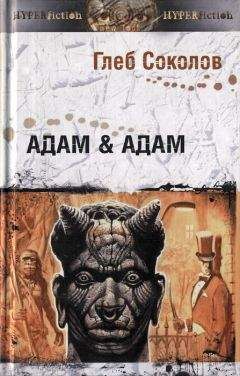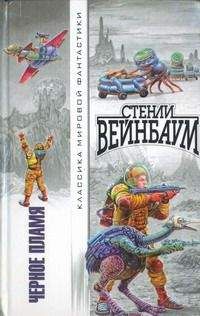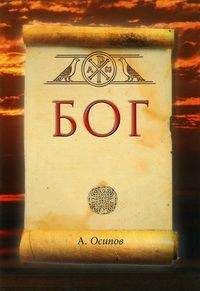Элина Савва - Адам и Ева постсоветского периода
Желающий закурить зыркнул сухим колючим взглядом оценивающе по супругам из-под чёрной шерстяной шапочки, повернулся, собираясь уйти прочь. Пётр Иваныч набрал в грудь воздуха, чтобы облегчённо вздохнуть…
И тут, неожиданно для всех, в заиндевевшую тишину тёмного двора пролезла, как змия, необдуманная горячая женская фраза:
– Как это – нечего?
Всё естество Елены Андревны – не последней женщины в советском светском провинциальном обществе – всколыхнулось.
– Что мы с тобой – нищие какие? – приподняла она голову, и гордо и дерзко взглянула в глаза супругу.
У вмиг побледневшего и похолодевшего Петра Иваныча очки поползли снова вверх.
– А кулон, который ты мне подарил на юбилей? Я его никогда не снимаю!
Два тёмных удалявшихся силуэта приостановились.
– А мобильник – подарок Иванова?
Двое обернулись. Подбородок Петра Иваныча мелко-мелко затрясся, очки поехали вниз, к кончику побагровевшего носа.
– А мой меховой воротник? А твоя шапка? Хоть и не новые – но вполне приличные! Даже молью нигде не побитые!
Шапка Петра Иваныча сползла на затылок, обнажая розовый ободок лысины.
Две подозрительные личности стали приближаться. Елену Андревну несло в блаженном экстазе хвастовства.
– А мои сапожки – итальянские! Каблучки – ни разу не стёртые! – она задорно топнула ножкой. – А кожа, кожа, какая мягкая, как шёлк! – Елена Андревна, грузно подскакивая, стянула сапожок с узким голенищем и мяла его податливую кожу. Двое переглянулись…
«Уж сколько говорено о женской логике, сколько обсмеяно её невинных проявлений! И никто не отнесётся к женщинам с сочувствием: ведь, не виноваты они, что устроены иначе, что главная черта женского мышления – спонтанность, что они гораздо эмоциональнее мужчин. И это хорошо, и мужчинам это приятно. Кому понравится женщина, закованная в доспехи деловой сосредоточенности? Никому. Мужчинам нравятся их улыбки, хохот, щебет. Но у каждой медали – две стороны. Другая, не самая приятная сторона эмоциональности – импульсивность, непредсказуемость, непосредственность на грани безумия. Женщина, зачастую, сама не знает, что она произнесёт, и какие могут быть от её слов последствия…» – все эти фразы пронеслись мгновенно в голове Петра Иваныча скоростным клубящимся потоком, наезжая и опрокидывая друг друга. И припоздалым вагончиком простучала колёсами последняя: «Женщина – как бомба с часовым механизмом… бомба с часовым механизмом… бомба…»
– Не холодно тебе, Еленочка? – первое, что спросил Пётр Иваныч, очнувшись, глядя на вязаные носочки жены.
Елена Андревна стояла без обуви на первом лёгком ноябрьском снегу, всхлипывала, размазывая чёрные ручейки туши по напудренным щекам. Вместо мехового воротника сиротливо торчали обрывки ниток.
Пётр Иваныч подал руку жене, и они вошли в подъезд.
На следующий день супруги Кипятковы подали заявление в милицию: мол, подверглись разбойному нападению с применением гипноза.
Кто-то скажет: дура, баба! – и будет коренным образом не прав. Не виновата Елена Андревна – ни капельки! Ведь она – всего лишь женщина, существо, построенное на чувствах – спонтанное и эмоциональное…
И Пётр Иваныч это отлично понимал.
В 19.15 следующего дня супруги Кипятковы отпили вечерний чай. С пряниками.
Между 19.25 и 19.30 в доме Кипятковых повисла неловкая пауза – где-то в самом верху, возле люстры. Пётр Иваныч делал вид, что читает газету. Елена Андревна с тревогой наблюдала за часовой стрелкой – словно та отсчитывала её последние минуты: вот она переползла вперёд ещё на одну чёрточку, вот ещё, а секундная бежит с такой невыносимой скоростью! И тикают часы так гулко-гулко, словно в комнате совсем нет ни мебели, ни ковров, и все давно оттуда съехали, и всё покрыто пушистой грязной пылью, и только на весь пустой остывший дом: тик-так, тик-так… через всю голову, от виска к виску, как набатный колокол: ТИК-ТАК!!!
В 19.30 Пётр Иваныч молча встал, оделся и выжидательно посмотрел на супругу.
– Петенька! – умоляюще прошептала Елена Андревна с полными слёз глазами.
– Елена Андревна, я Вас приглашаю на прогулку! – твёрдо, с нажимом произнёс Пётр Иваныч и бережно подал супруге пальто – без мехового воротника.
Молитва о врагах
Пронеслось вихрем советское время, отстучало тачанками красной конницы, отшумело лихими, с заломленными кепками комсомольцами, освобождающими народ от опиума для него – религии; унеслось вместе с партийными работниками – надутыми индюками в костюмах, вталкивающими в головы масс мыльный пузырь идеологии. Протанцевали 70 лет исторической дробью на мировой сцене и стихли в омуте 90-х, забрав с собой детскую, непосредственную, греющую в суровые будни среднестатистической интеллигентской зарплаты веру в светлое будущее, дав взамен капиталистическую реальность в ощущения – сразу, мощным кулаком, по всем шести чувствам, оставив душу нищей, нагой, голодной на холодном ветру безверия.
А душа… «А душа ведь, по природе – христианка!» – назидательно говаривала соседка Елене Андреевне, многозначительно оглядываясь по сторонам, как резидент на задании, словно не Тертуллиан впервые высказал эту мысль во втором веке нашей эры, а вот именно она и именно сейчас. И чтобы никто не повторил и не присвоил! Только аккуратные ушки Елены Андревны достойны услышать данное соседкино открытие. Елена Андревна уважительно смотрела в глаза проповедницы, готовая нести возложенное на неё доверие.
Соседка продолжала:
– Ты ведь крещёная?
Елена Андревна согласно кивнула.
– А в церковь-то не ходишь?
Елена Андревна виновато пожала плечами:
– Я не понимаю, зачем…
Соседка зашипела:
– Как это – зачем? А душу спасать? А здоровье не потерять? А чтоб сглазу на тебе не было?
– Душу спасть – от чего? – вопросила Елена Андревна.
Но соседка её не услышала:
– Ведь нонича от сглазу нецерковному люду – смерть! – выкатила она глаза.
Елена Андревна отшатнулась:
– Да ну?
– Ой, чё делають! Чё тока ни делають! – запричитала старуха, и дальше в беленькие с пухленькими мочками, увенчанные гранатовой серёжкой в золотом обрамлении ушки Елены Андревны понеслась вереницей всякая чушь о гадких тёщах и свекровях, подкладывающих непонятные предметы под обои молодым семьям, за здоровье которых недавно пили на свадьбе (не иначе как жестоко притворяясь!); о плавающем ногте взрослого человека в младенческой ванночке для купания, о изведённых приворотным зельем мужиках, безнадёжно влюбившихся в соседок-молодух; о неизлечимых болезнях, нападающих неожиданно и бесповоротно, как разбойники из-за угла; о рассыпанной на пороге «запечатанной» земле, мелких грязных тряпочках на дачном участке, заговоренных подарках и прочая, прочая, прочая…
Рассказы слегка напоминали страшилки, которые девчонки рассказывают друг другу перед сном в пионерлагере, но Елена Андревна перебивать не решалась.
– И знаешь, что от этого спасает?
Елена Андревна покачала отрицательно головой.
– Крест Господень, – патетически воскликнула соседка, указуя перстом в небо. – Вот почему нужно носить его, не сымая. Всегда. А на тебе-то, небось, и нету?
Елена Андревна виновато приподняла брови.
– Вот, давай, сходим с тобой в воскресенье в церковь, крестик купишь, я расскажу тебе куда, чего, зачем – хватит нехристем ходить, грех это.
Елену Андревну давно посещала мысль сходить на службу, но как-то не решалась она. Наблюдая в окно радужную картину, когда на Пасху множество народу, в том числе и бывших партийных работников, комсомольцев и постаревших пионеров, с плетёными корзинками, полными испечённых, украшенных пасхальными атрибутами куличей и разноцветных, с затейливыми узорами крашенок, спешит в гремящий праздничным колокольным звоном храм, она обращалась к супругу:
– Петенька, может и мы сходим?
– Зачем? – непривычно угрюмо отзывался Петенька.
– Ну… Все идут… И Ивановы тоже.
– Еленочка, ты помнишь, как мы СО ВСЕМИ на демонстрации ходили?
– Ну, да. Весело было. Все в приподнятом настроении, потом за стол, всей семьёй…
– А зачем? Смысл в них был – какой? Канули в лету весёлые демонстрации, значит, не было в них смыслу. Так вот, – продолжал Пётр Иваныч с непривычным, властным нажимом в голосе и растущим раздражением, – я теперь, пока смысла не узнаю, никуда не пойду! – грозный отблеск стёкол очков в попавшемся солнечном луче подтверждал всю серьёзность слов Петра Иваныча.
Елена Андревна молчала, а потом пыталась слабо возражать:
– А как же ты смысл узнаешь, если в церковь ходить не будешь?
Пётр Иваныч бормотал что-то невнятное:
– Узнаю… как-нить… если захочу… – и закрывался от жены газетой.
Елена Андревна отворачивалась к окну, провожала тоскливым взглядам праздничную толпу, но сама пойти не решалась.
В воскресенье Елена Андревна сильно волновалась, долго собиралась, подбирая подходящую одежду: это, пожалуй, будет слишком ярко, это – коротко, в брюках – нельзя. Духи? Можно ли наносить духи? А макияж? Как же на улицу совсем без макияжу? Всё равно, что голой – засмеют! И Елена Андревна мигом представила, как она идёт по улице, низко наклонив голову и пряча глаза в асфальт, чтоб никто не заметил, что она без макияжу, а прохожие всё равно тыкают пальцем, скалят зубы, нагло заглядывают в лицо и ржут, переговариваясь между собой: «Глядите! Глядите! Без макияжу! Чай, не Дженнифер Лопес, а даже глаз не подкрасила!» И снова ржут.