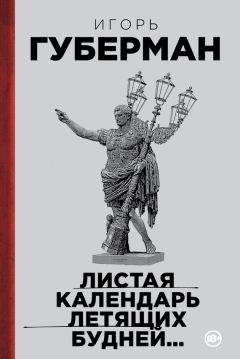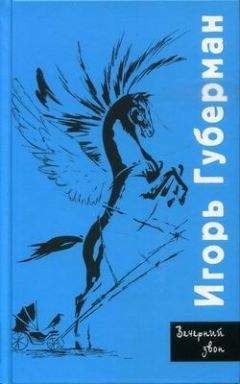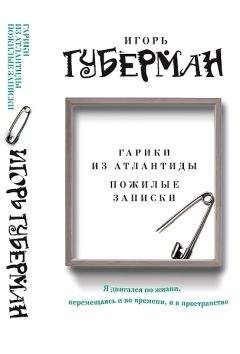Игорь Губерман - Искусство стареть (сборник)
Жить беззаботно и оплошно – как раз и значит жить роскошно
Ушли и сгинули стремления,
остыл азарт грешить и каяться,
тепло прижизненного тления
по мне течёт и растекается.
Когда остыл душевный жар,
а ты ещё живёшь зачем-то,
то жизнь напоминает жанр,
который досуха исчерпан.
Уже мы в гулянии пылком
участие примем едва ли,
другие садятся к бутылкам,
которые мы наливали.
Покуда мы свои выводим трели,
нас давит и коверкает судьба,
поэтому душа – нежней свирели,
а пьёшь – как водосточная труба.
Мы столько по жизни мотались,
что вспомнишь – и льётся слеза,
из органов секса остались
у нас уже только глаза.
Нам не светит благодать
с ленью, отдыхом и песнями:
детям надо помогать
до ухода их на пенсии.
Не сдули ветры и года
ни прыть мою, ни стать,
и кое-где я хоть куда,
но где – устал искать.
Всюду ткут в уюте спален
новых жизней гобелен,
только мрачен и печален
чуждый чарам чахлый член.
На старости я сызнова живу,
блаженствуя во взлётах и падениях,
но жалко, что уже не наяву,
а в бурных и бесплотных сновидениях.
Покрыто минувшее пылью и мглой,
и грустно чадя сигаретой,
тоскует какашка, что в жизни былой
была ресторанной котлетой.
На старости я, не таясь,
живу как хочу и умею,
и даже любовную связь
я по переписке имею.
Опыт наш – отнюдь не крупность
истин, мыслей и итогов,
а всего лишь совокупность
ран, ушибов и ожогов.
Ругая жизнь за скоротечность,
со мной живут в лохмотьях пёстрых
две девки – праздность и беспечность,
моей души родные сёстры.
Окажется рощей цветущей
ущелье меж адом и раем,
но только в той жизни грядущей
мы близких уже не узнаем.
Ещё мне внятен жизни шум
и штоф любезен вислобокий;
пока поверхностен мой ум,
ещё старик я не глубокий.
Слава Богу, что я уже старый,
и погасло былое пылание,
и во мне переборы гитары
вызывают лишь выпить желание.
Мне жалко, что Бог допускает
нелепый в расчётах просчёт,
и жизнь из меня утекает
быстрее, чем время течёт.
Я старый, больной и неловкий,
но знают гурманки слияния,
что в нашей усталой сноровке
ещё до хера обаяния.
В пустыне усталого духа,
как в дремлющем жерле вулкана,
всё тихо, и немо, и глухо —
до первых глотков из стакана.
Уже виски спалила проседь,
уже опасно пить без просыпа,
но стоит резко это бросить,
и сразу явится курносая.
Житейскую расхлёбывая муть,
так жалобно мы стонем и пыхтим,
что Бог нас посылает отдохнуть
быстрее, чем мы этого хотим.
Я слишком, ласточка, устал
от нежной устной канители,
я для ухаживанья стар —
поговорим уже в постели.
Одно я в жизни знаю точно:
что плоть растянется пластом,
и сразу вслед начнётся то, что
Творец назначил на потом.
Я шамкаю, гундосю, шепелявлю,
я шаркаю, стенаю и кряхчу,
однако бытиё упрямо славлю
и жить ещё отчаянно хочу.
Себя из разных книг салатом
сегодня тешил я не зря,
и над лысеющим закатом
взошла кудрявая заря.
В любом пиру под шум и гам
ушедших помяни:
они хотя незримы нам,
но видят нас они.
Я к веку относился неспроста
с живым, но отчуждённым интересом:
состарившись, душа моя чиста,
как озеро, забытое прогрессом.
Ничуть не больно и не стыдно
за годы лени и гульбы:
в конце судьбы прозрачно видно
существование судьбы.
Нечто круто с возрастом увяло,
словно исчерпался некий ген:
очень любопытства стало мало
и душа не просит перемен.
Пришли ко мне, покой нарушив,
раздумий тягостные муки:
а вдруг по смерти наши души
на небе мрут от смертной скуки?
На пороге вечной ночи
коротая вечер тёмный,
что-то всё ещё бормочет
бедный разум неуёмный.
Сегодня исчез во мраке
ещё один, с кем не скучно,
в отличие от собаки
я выл по нему беззвучно.
Я живу, незатейлив и кроток,
никого и ни в чём не виня,
а на свете всё больше красоток,
и всё меньше на свете меня.
Ещё родить нехитрую идею
могу после стакана или кружки,
но мысли в голове уже редеют,
как волос на макушке у старушки.
Со мной, хотя удаль иссякла,
а розы по-прежнему свежи,
ещё приключается всякое,
хотя уже реже и реже.
И хотя уже видна
мне речушка Лета,
голова моя полна
мусора и света.
Нам, конечно, уйти суждено,
исчерпав этой жизни рутину,
но закончив земное кино,
мы меняем лишь зал и картину.
Люблю ненужные предметы,
любуюсь медью их и глиной,
руками трогаю приметы
того, что жизнь случилась длинной.
Ещё свой путь земной не завершив,
российской душегубкой проворонен,
по внешности сохранен я и жив,
но внутренне – уже потусторонен.
Иступился мой крючок
и уже не точится;
хоть и дряхлый старичок,
а ебаться хочется.
Я не был накопительства примером
и думаю без жалости теперь,
что стал уже давно миллионером
по счёту мной понесенных потерь.
Пока себя дотла не износил,
на баб я с удовольствием гляжу;
ещё настолько свеж и полон сил,
что внуков я на свет произвожу.
Нет часа угрюмей, чем утренний:
душа озирается шало,
и хаосы – внешний и внутренний
коростами трутся шершаво.
Я чую в организме сговор тайный,
решивший отпустить на небо душу,
ремонт поскольку нужен капитальный,
а я и косметического трушу.
Мечтай, печальный человек,
целебней нет от жизни средства,
и прошлогодний веет снег
над играми седого детства.
Дойдя до рубежа преображения,
оставив дым последней сигареты,
зеркального лишусь я отражения
и весь переселюсь в свои портреты.
О чём-то грустном все молчали,
но я не вник и не спросил,
уже чужие знать печали
нет у меня душевных сил.
Конечно, всё на свете – суета
под вечным абажуром небосвода,
но мера человека – пустота
окрестности после его ухода.
Уже давно мы не атлеты,
и плоть полнеет оголтело,
теперь некрупные предметы
легко я прячу в складках тела.
Держусь ничуть не победительно,
весьма беспафосно звучу,
меня при встрече снисходительно
ублюдки треплют по плечу.
Пусть меня заботы рвут на части,
пусть я окружён гавном и суками,
всё же поразительное счастье —
мучиться прижизненными муками.
Когда мы кого-то ругаем
и что-то за что-то клянём,
мы желчный пузырь напрягаем,
и камни заводятся в нём.
Не по капризу Провидения
мы на тоску осуждены,
тоска у нас – от заблуждения,
что мы для счастья рождены.
Я жизнь мою обозреваю,
почти закончив путь земной,
и сам себя подозреваю,
что это было не со мной.
Ты, душа, если сердце не врёт,
запросилась в родные края?
Лишь бы только тебя наперёд
не поехала крыша моя.
Моя прижизненная аура
перед утечкой из пространства
в неделю похорон и траура
пронижет воздух духом пьянства.
Как судьба ни длись благополучно,
есть у всех последняя забота;
я бы умереть хотел беззвучно,
близких беспокоить неохота.
Угрюмо ощутив, насколько тленны,
друзья мои укрылись по берлогам;
да будут их года благословенны,
насколько это можно с нашим Богом.
Как раньше юная влюблённость,
так на закате невзначай
нас осеняет просветлённость
и благодарная печаль.
Замшелым душам стариков
созвучны внешне их старушки:
у всех отпетых гавнюков
их жёны – злобные гнилушки.
Я остро ощущаю временами
(проверить я пока ещё не мог),
что в жизни всё случившееся с нами —
всего лишь только опыт и пролог.
Когда близка пора маразма,
как говорил мудрец Эразм,
любое бегство от соблазна
есть больший грех, чем сам соблазн.
Я храню душевное спокойствие,
ибо всё, что больно, то нормально,
а любое наше удовольствие —
либо вредно, либо аморально.
Вульгарен, груб и необуздан,
я в рай никак не попаду,
зато легко я буду узнан
во дни амнистии в аду.
То ясно чувствуешь душой,
то говорит об этом тело:
век был достаточно большой,
и всё слегка осточертело.
Так же будут кишеть муравьи,
а планеты – нестись по орбитам;
размышленья о смерти мои —
только мысли о всём недопитом.
Готовлюсь к уходу туда,
где быть надлежит человеку,
и время плеснёт, как вода
над камешком, канувшим в реку.
Остатком памяти сухим,
уже на склоне и пределе
мы видим прошлое таким,
каким прожить его хотели.
Лишь на смертном одре я посмею сказать,
что печально во всём этом деле:
если б наши старухи любили вязать,
мы бы дольше в пивных посидели.
Старение – тяжкое бедствие,
к закату умнеют мужчины,
но пакостно мне это следствие
от пакостной этой причины.
Я думаю – украдкой и тайком,
насколько легче жить на склоне лет,
и спать как хорошо со стариком:
и вроде бы он есть, и вроде нет.
Мы стали снисходительно терпеть
излишества чужого поведения:
нет сил уже ни злиться, ни кипеть,
и наша доброта – от оскудения.
Что стал я ветхий старичок,
меня не гложет грусть,
хотя наружно я сморчок,
внутри – солёный груздь.
Финал кино: стоит кольцом
десяток близких над мужчиной,
а я меж них лежу с лицом,
чуть опечаленным кончиной.
Ещё едва-едва вошёл в кураж,
пора уже отсюда убывать,
а чувство – что несу большой багаж,
который не успел распаковать.
Очень я игривый был щенок,
но дожив до старческих седин,
менее всего я одинок
именно в часы, когда один.
Купаю уши в мифах и парашах,
никак и никому не возражая;
ещё среди живых немало наших,
но музыка вокруг – уже чужая.
Как только жить нам надоест
и Бог не против,
Он ускоряет нам разъезд
души и плоти.
Старик не просто жить устал,
но более того:
ему воздвигли пьедестал —
он ёбнулся с него.
Давно уж качусь я со склона,
а глажу – наивней мальчишки —
тугое и нежное лоно
любой подвернувшейся книжки.
Время – лучший лекарь, это верно,
время при любой беде поможет,
только исцеляет очень скверно:
мы чуть позже гибнем от него же.
На время и Бога в обиде,
я думаю часто под вечер,
что те, кого хочется видеть,
не здесь уже ждут нашей встречи.
Весьма, конечно, старость ощутима,
но ценным я рецептом обеспечен:
изношенной душе необходима
поливка алкоголем каждый вечер.
Вся интимная плеяда
испарилась из меня:
нету соли, нету яда,
нету скрытого огня.
Тёк безжалостно и быстро
дней и лет негромкий шорох;
на хера мне Божья искра,
если высыпался порох?
Забыв про старость и семью,
согретый солнечным лучом,
сажусь я в парке на скамью
и размышляю ни о чём.
На лицах у супружеской четы,
нажившей и потомство, и добро,
являются похожие черты —
удачной совместимости тавро.
Между мной и днём грядущим
в некий вечер ляжет тень,
и, подобно всем живущим,
я не выйду в этот день.
Хоть самому себе, но внятно
уже пора сказать без фальши,
что мне доныне непонятно
всё непонятное мне раньше.
Всерьёз меня волнует лишь угроза —
подумаю, мороз бежит по коже —
что я из-за растущего склероза
начну давать советы молодёжи.
В душе – руины, хлам, обломки,
уже готов я в мир иной,
и кучерявые потомки
взаимно вежливы со мной.
Кто алчен был и жил напористей,
кто рвал подмётки на ходу,
промчали век на скором поезде,
а я пока ещё иду.
Не знаю, как по Божьей смете
должна сгореть моя спираль,
но я бы выбрал датой смерти
число тридцатое, февраль.
Во всех веках течёт похоже
сюжет, в котором текст не нужен
и где в конце одно и то же:
слеза вдовы и холм над мужем.
У врачебных тоскуя дверей,
мы болезни вниманием греем
и стареем гораздо быстрей
от печали, что быстро стареем.
Всё, что в душе носил, – изношено,
живу теперь по воле случая
и ничего не жду хорошего,
хотя упрямо верю в лучшее.
Можно очень дикими согреться
мыслями, короткими, как искра:
если так разрывно колет сердце —
значит, я умру легко и быстро.
Да, уже мы скоро все там
соберёмся, милый мой,
интересно только – светом
или гнилостью и тьмой?
Ткань жизни сожжена почти дотла,
в душе и на гортани – привкус терпкий,
уже меня великие дела
не ждут, а если ждут – пускай потерпят.
Бесплотные мы будем силуэты,
но грех нас обделять необходимым,
и тень моя от тени сигареты
сумеет затянуться горьким дымом.
Вкусил я достаточно света,
чтоб кануть в навечную тьму,
я в Бога не верю, и это
прекрасно известно Ему.
Не чересчур себя ценя,
почти легко стареть,
мир обходился без меня
и обойдётся впредь.
В какую ни кидало круговерть,
а чуял я и разумом и носом:
серьёзна в этой жизни только смерть,
хотя пока и это под вопросом.
Поскольку ни на что ужене годен, теперь я относительно свободен