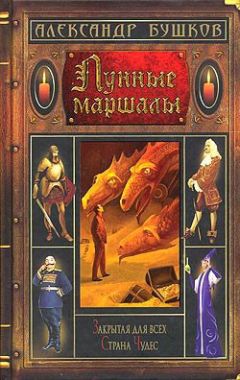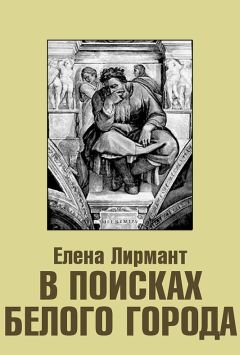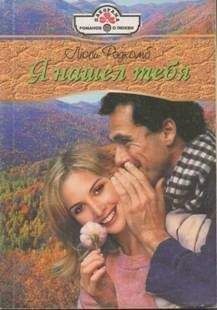Елена Флорентьева - Сто голландских тюльпанов
- Ладно, голубушка, я отомщу по-другому.
...На районной профсоюзной конференции он встречает молодую одинокую делегатку. В перерыве, гуляя по фойе близ буфета, она роняет на пол мандат. Николай Кузьмич поднимает его и галантно возвращает владелице. Завязывается разговор; он приглашает ее в ресторан. Да-с, ресторан... Белоснежные скатерти, жульен. У шныряющей по залу назойливой молодки он покупает гигантский букет хризантем. Кофе не надо, слышит он голос обольстительной профсоюзницы, кофе будем пить у меня...
- Да чушь все это! — догадался Николай Кузьмич холодным рассудком. — Ресторан? Хризантемы? На ежедневно выдаваемый рубль?
Он встал и тихо побрел на кухню - пить воду. На кухне горел свет. За столом, свесив со стула босые ноги, сидел Феликс, грустно хрустя печеньем.
- Там шкаф на черта похож, — сообщил он отцу. — Я спать не могу. Ты его тоже боишься?
- Нет, я нет. — Николай Кузьмич погладил сына по круглой голове. — Давай поговорим, — предложил он неожиданно.
Феликс на минуту задумался.
- Расскажи о мамочкиных мозгах, — попросил он.
- Нет, — поморщился Николай Кузьмич. — Не нужно о мозгах. Ну их, мозги. Давай о капитализме. Я в прошлый раз пошутил, когда сказал, что это злой дядя.
- А, — сказал Феликс. — А какой же, хороший?
- Нет, это такая вещь... Вот ты хорошо живешь?
- Хорошо.
- Тебе мама котлету дала на ужин и кашу. Потому что у нас гуманное общество. Называется - социализм.
- Где?
- Везде, вокруг.
- И на улице?
- Везде. А есть другие страны. Ну хоть Америка, знаешь? Так вот, там капитализм, и многим мальчикам нечего есть на ужин, потому что их родители нищие, безработные.
- Вообще ничего не едят?
- Едят, но редко, всякую дрянь.
- Наверное, тушеную капусту.
- А несколько дядек сидят и управляют всеми остальными. У них много денег и всякой вкусной еды, а остальные люди на них спину гнут, понял?
- А если не захотят гнуть? — прошептал Феликс.
- Тогда в тюрьму, а могут и убить, были такие случаи, — объяснил Николай Кузьмич. — Капитализм - страшная вещь. Ну, пойдем, я тебя уложу.
Они миновали шкаф без приключений, и Феликс шустро забрался под одеяло.
- Папа, — сказал он шепотом, — хочешь, я открою тебе одну тайну?
- Давай.
- Только не говори маме и вообще никому.
Пригнув голову отца обеими руками, он прошептал:
- А в нашем детском саду капитализм. Потому что Нелли Сергеевна и Клавдия Семеновна все вкусное съедают сами и уносят в сумке домой. Я сам это видел, папа.
Фейн и Павлик
Весь комизм заключался в том, что он был вылитый Николай II Кровавый, но фамилия его была Фейн, и он был еврей. К тому же он был племянником советской атомной бомбы, поскольку его дедушка приходился ей одним из отцов.
Когда-то мы были приятелями – он, я и Павлик. До седьмого класса мы учились вместе, но потом Фейн перешел в какую-то суперспецшколу, инкубатор для вундеркиндов, имени Второго Закона Термодинамики или Черта в Ступе, точно не помню. Мы же с Павликом продолжали образование в нашей средней политехнической, не теряя, впрочем, контакта с яйцеголовым двойником последнего российского самодержца.
Где-то на семнадцатом году жизни, окончательно сформировавшись как половозрелая особь, Фейн начал являть нам с Павликом образчики дурного, если не сказать извращенного, вкуса. С упорством одержимого он шнырял по Москве, выискивая себе подружек чрезвычайно уродливой наружности, способной соперничать разве что с убожеством их внутреннего мира.
- Где он их откапывает? — спросил меня как-то раз трезвомыслящий Павлик.
Я пожал плечами. Наконец мы сошлись на мнении, что фейновские девицы, вероятно, — побочный продукт исследований секретной дедушкиной лаборатории.
Разумеется, это было личное дело Фейна, на ком вымещать ярость своей юношеской потенции, но ужас состоял в том, что он категорически настаивал на представлении нам с Павликом каждой новой пассии. Поскольку же сексуальные поиски нашего приятеля неизменно увенчивались тем, что новенькая всякий раз оказывалась на порядок непригляднее и скудоумнее своей предшественницы, а самая молоденькая из них была старше нас лет на двенадцать, эти смотрины отнюдь не относились к числу наших излюбленных развлечений.
Фейн умасливал своих чаровниц портвейном "Кавказ", также являвшимся неотъемлемой частью его системы эстетических координат.
Никогда мне не забыть этого парада уродов! Перед нашим с Павликом ошеломленным взором промелькнуло столько кривых ног, выпирающих ключиц, кряжистых торсов портовых амбалов, вытравленных перекисью волос, чугуннолитейных икр, плохо пропеченных лиц, всего этого безбровья и нездоровой одутловатости, что я до сих пор поражаюсь, как столь сильные потрясения, испытанные нами в самом деликатном возрасте, не истребили в нас нормального гетеросексуального начала.
В общем, созерцание фейновского паноптикума оттенило период подготовки к выпускным школьным экзаменам каким-то кафкианским колоритом. Потом я поступил на факультет журналистики одного московского института, название которого было известно всем, хотя в ту пору почему-то не значилось в справочнике "Куда пойти учиться". Этот институт, основанный, как поговаривали, Молотовым, внес немалый вклад в формирование в нашей стране наряду с трудовыми династиями металлургов, горняков и механизаторов, династий дипломатов, внешторговцев и журналистов-международников. Фейн стал студентом технического ВУЗа с длинным наименованием, сочетавшим в себе какую-то бывшую лженауку, а также ряд отраслей, в которых мы отстали от наиболее развитых капстран на два поколения. Павлик же, долгое время находившийся во власти своей флегмы и лишь в последний момент внезапно остановивший свой выбор на геолого-разведочном институте, экзамены завалил и в течение двух последующих лет по вполне понятной причине отсутствовал, накручивая хвосты самолетам на военном аэродроме в восточной Сибири.
Возможно, именно отсутствие рассудительного и спокойного Павлика сыграло зловещую роль в той коллизии, которой было суждено развести нас с Фейном на годы. Вдвоем, плечом к плечу, мы были в состоянии выдерживать безудержный напор материализовавшихся эротических фантазий молодого гения. Один же я был бессилен.
Как-то зимой, в начале второго семестра. Фейн приперся ко мне домой с очередной избранницей, чья фигура, на мой взгляд, могла отправлять одну-единственную функцию: идеальной самоходной модели для изучения геометрии Лобачевского. Пересекающиеся параллельные были облечены в сиреневый кримплен.
- Альбина, — басовито представилась фейновская малютка и отрывистым жестом номенклатурного работника протянула мне свою здоровенную лапищу
- Карлос, дон, — буркнул я, досадуя на неурочный визит, и, язвительно скосившись на кавалера, галантно изогнулся, якобы для того, чтобы припасть к ручке, а затем отпрянул, якобы припомнив, что руки приличествует целовать только замужним дамам.
Успеха моя пантомима не имела: бухая тяжелыми сапожищами на "платформе", сиреневая фея прошествовала в угол, плюхнулась там в глубокое кресло и закинула ногу на ногу, явив взорам двух юных идальго бирюзовые штаны на резинках.
- Клянусь честью, ты своего добился, старик Фейн, — шепнул я. — Она страшнее твоей тетки.
- Какой еще тетки?
- Да атомной бомбы, какой же еще-то?
- Ты кретин, — заметил Фейн. — И ты ничего не понимаешь. Поставь-ка лучше музыку.
- У вас "Дилайлы" Тома Джонса нету? — послышалось из угла.
Повинуясь мгновенному импульсу, я поставил кассету с записью диска "Параноид" группы "Блэк Сэббэт".
- Так чего же именно я не понимаю, старик Фейн? — осведомился я.
Он начал горячо и сбивчиво лопотать о декадентах, Бодлере и особом даре улавливать в прекрасном отталкивающее и наоборот.
- Ты бы лучше Бодлера не трогал, паршивец, — произнес я задушевно. — И декадентов тоже. Гумилев в гробу ворочается. Ни фига себе акмеизм! — И я выразительно посмотрел в угол.
При всей своей неевклидовой сущности Альбина, видимо, почувствовала, что атмосфера накаляется, и решила ее разрядить:
- Слышали про Гольфстрим? Прибегает Петька к Василию Ивановичу: "Василий Иваныч! Гольфстрим замерз!" А тот ему: "Сколько раз, Петька, повторять, чтоб не брали в дивизию евреев!"
Я вытаращился на Альбину, исчерпав за мгновение весь ресурс природного магнетизма. Моего взгляда хватило бы, чтобы испепелить кубометр осиновых дров, но существо в кресле казалось неуязвимым. Я перевел глаза на Фейна и успел отметить на его лице печать ласкового идиотизма.
- А хотите, братцы, я вам погадаю? — спросил я, сам не знаю почему.
- Ой, давайте, — активизировалась фейновская мамзель. — Жутко интересно, правда, заяц?
Боже, неужели в качестве длинноухого врага капустных плантаций выступал мой несчастный друг?