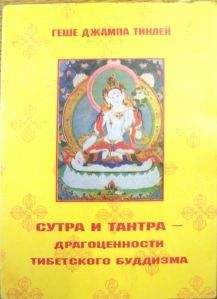Дмитрий Минаев - Поэты «Искры». Том 2
2. «В доносах грязных изловчась…»
В доносах грязных изловчась,
Он даже, если злобой дышит,
Свою статью прочтет подчас,
То на себя донос напишет.
309–310. ОТГОЛОСКИ О ЦЕНЗУРЕ
1. «О Зевс! Под тьмой родного крова…»
О Зевс! Под тьмой родного крова
Ты дал нам множество даров,
Уничтожая их сурово,
Дал людям мысль при даре слова
И в то же время — цензоров!!
2. В КАБИНЕТЕ ЦЕНЗОРА
Здесь над статьями совершают
Вдвойне убийственный обряд:
Как православных — их крестят
И как евреев — обрезают.
311. «Понемножку назад да назад…»
Понемножку назад да назад,
На такую придем мы дорожку,
Что загонят нас всех, как телят,
За Уральский хребет понемножку.
Мы воздвигнем себе монумент,
Монументов всех выше и краше,
И в один колоссальный Ташкент
Обратится отечество наше.
312. НА КОМ ШАПКА ГОРИТ?
Имея многие таланты,
К несчастью, наши интенданты
Преподозрительный народ.
Иной, заслыша слово «ворон»,
Решает, что сказали: «вор он!» —
И на его, конечно, счет;
А если кто проговорится
Невинным словом «воробей»,
Он начинает сторониться,
Поймавши звуки: «вора бей!»
313. НОВАЯ НОВИНКА
Украсился журнальный огород,
И новая в нем появилась грядка,
Но скукою «порядочной» несет
От первого же нумера «Порядка»,
Хоть даже сам Тургенев очерк дал,
Чтоб оживить хоть несколько изданье.
Так в дом купца, в день бракосочетанья,
Зовется свадебный, парадный генерал.
314. «ЛЕС»
(И. ШИШКИНА)
Правдиво так написан лес,
Что все невольно изумляются.
В таком лесу насмешки бес
И эпиграмма заплутаются.
315. «САПОЖНИК»
(КОЧЕТОВА)
Сюжет по дарованью и по силам
Умея для картины выбирать,
Художник хорошо владеет… шилом —
Тьфу! — кистью — я хотел сказать.
316. «ВЕСТНИКУ ЕВРОПЫ»
Сплин нагоняющий, усердный, как пчела,
Об аккуратности единой он хлопочет,
Всегда выходит первого числа,
Но век опередить на час один не хочет.
317. ЗАКУЛИСНЫЙ СЛУХ
«Увидавши Росси в „Лире“
И взглянув на дело шире,
Нильский сам имеет честь
Взять роль Лира…» — «Вот так ново!
В „Лире“ шут один уж есть,
Для чего ж шута другого?»
318. СПРАВЕДЛИВОЕ ОПАСЕНИЕ
Непризнанный пророк,
Воспламеняясь часто,
Аверкиев изрек:
«Писать не стану: баста!»
И невская печать
Теперь в большой тревоге:
А ну, как он опять
Строчить начнет, о боги!
319. <Е. М. ФЕОКТИСТОВУ> («Островский Феоктистову…»)
Островский Феоктистову
На то рога и дал,
Чтоб ими он неистово
Писателей бодал.
320. МАДРИГАЛ
Она останется всегда
Артисткой нужною для сцены,
И хоть не очень молода,
Но всё ж моложе Мельпомены.
321. ЖИЖИЛЕНКО
Он пейзажист такого рода,
Что кисть его дивить должна.
Решив однажды, что природа
Хотя, конечно, недурна,
Не без красот, но в смысле строгом
Поправок требует во многом,
Художник начал исправлять
Природы этой недостатки,
Подкрашивать и подвивать,
Заштопывать и класть заплатки,
Этюдам дал конфетный смак,
Обсахарил природу так,
Что сомневаться начал Питер:
Он пейзажист или кондитер?
322. В. КОКОРЕВ
Вот имя славное. С дней откупов известно
Оно у нас, — весь край в свидетели зову;
В те дни и петухи кричали повсеместно:
Ко-ко-ре-ву!!.
323. NN («Он знает, где зимуют раки…»)
Он знает, где зимуют раки,
Как кошки, видит всё во мраке
И, чуя носом капитал,
Пришел, увидел и украл.
324. ОДНОМУ ИЗ ЛЕКТОРОВ
Не диво, что клонил всех слушателей сон
На лекциях его, но то одно, что он
Сам не заснул от собственного чтенья,
Гораздо большего достойно удивленья.
325. ВИК. КРЫЛОВУ
Обзавестись в преклонные года
Ты можешь внуками, но всё же никогда
Не будешь дедушкой Крыловым. Перемены
Такой не жди, покорствуя судьбе,
Придется целый век прожить тебе
В племянниках… у невской Мельпомены.
326. <В. П. БУРЕНИНУ> («По Невскому бежит собака…»)
По Невскому бежит собака,
За ней Буренин, тих и мил…
Городовой, смотри, однако,
Чтоб он ее не укусил!
III
327. АД
ПОЭМА В ТРЕХ ПЕСНЯХ
(Подражание Данте)
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ
Едва ли стих, которым пишут оды,
Посланья «к ней», к трем звездочкам, к луне,
Стих, мелкий льстец и раб вчерашней моды,
Сумеет людям передать вполне
Картину ада, нынешнего ада,
Куда спуститься вздумалося мне.
Певучих рифм для этого не надо;
Тут воплями и скрежетом зубов,
Шипением раздразненного гада
Откликнуться в рассказе будь готов…
О муза робкая! хоть на минуту
Забудь свой пол, стыдливости покров,
И загляни со мною в глубину ту,
Где не один знакомый нам земляк
Стал осужден гореть подобно труту.
Я несся в ад, и несся быстро так,
Держась рукой за крылья Люцифера,
Что не видал, как вдруг исчезнул мрак,
И предо мной разверзлася пещера,
За ней другая, третья… целый ряд.
Метнулась в нос струей зловонной сера,
А под ногами огненный каскад
Ревел и прыгал. Далее, спустились
Мы в глубину, центральный самый ад,
Где жар такой, что волоса дымились
И щеки трескались на части. Вдруг
Передо мною тени закружились,
И я увидел сотни чьих-то рук,
Простертых вверх. Я смело крикнул: «Кто вы?»
И повторило эхо этот звук;
В огне кружась, завыли дико совы,
И вопль теней, крутящихся в смоле,
Меня смутил. Картины были новы.
Палим огнем в кровавой этой мгле,
Где что ни шаг — то тень, то стон собрата,
Я прислонился с ужасом к скале,
А вкруг меня скакали чертенята,
Дрались, кувыркались на голове,
Прося хоть «грош на бедность». Так когда-то
За мной гонялись нищие в Москве,
С припевом старым: «дайте медный грошик
Убогой сироте или вдове…»
И стало жаль мне этих адских крошек,
Но им едва я горсть монет швырнул,
Они слились в визжаньи диких кошек
И вскрыли пасть, как тысяча акул;
За дележом рассыпанной монеты
Уж свалка началась, но Вельзевул,
С которым в ад низвергся я с планеты,
Махнул жезлом — и эта сволочь вмиг
Рассыпалась и спряталася где-то.
Вдруг долетели к нам — ужасный крик,
Ругательства и треск славянской брани.
«Иди вперед, — сказал мне проводник,—
В пещеру ту посажены славяне…»
— «О, к ним скорей!..» И, к землякам спеша,
Я много встреч сулил себе заране.
Вошли. Едва шагнул я, чуть дыша,
В огне, в дыму, как где-то близко, рядом,
Завыла чья-то падшая душа.
При встрече с ней попятился я задом:
Погружена в шипящий кипяток,
Бранилась тень и задыхалась смрадом,
А с вышины ей в рот лился поток
Прозрачной влаги, внутренность сжигая.
Кто́ был тот грешник — я признать не мог,
Но на меня, проклятья изрыгая,
Он бросил взгляд — и взгляд был зол и дик,
Как будто представлял ему врага я.
«Прочь от меня! я — русский откупщик!
Пью голый спирт, питаюсь скипидаром,
Мой рот сожжен, изорван мой язык,
Мне в чрево льют напиток адский — даром,
Но если б в мир я вырвался опять —
Поил бы вас всё прежним полугаром».
И голый спирт он начал вновь глотать
С гримасой отвратительной и зверской…
Я далее стал ад обозревать
И подошел к какой-то яме мерзкой,
Откуда грешник звал меня: «сюда!» —
И вдруг за плащ схватил рукою дерзкой.
Увы! я в нем узнал не без труда
Известного мне прежде бюрократа,
Для женщин труд бросавшего всегда,
В pince-nez, в бобрах, по Невскому когда-то
Искавшего то устриц, то интриг,
С Борелем бывшего всю жизнь запанибрата!..
Ты в ад попал, изящный мой старик,
Где устриц нет, где нет белья и фрака!..
Хоть за душу хватал мне старца крик,
Но так силен был запах аммиака,
Такая вонь из ямы поднялась,
Что мимо я бежал, и гений мрака
Мне указал на тень: она вилась
И ползала, влача на пле́чах груду
Тяжелых слитков золота, рвалась,
Но, ношею приплюснутая в слюду,
В почтовый лист, опять стиралась в прах.
«Тень грешника! тебя я не забуду!
Пусть злая казнь твоя пробудит страх
Корыстолюбца, жадного к аферам,
Всегда, как ты, тонувшего в долгах
И лезшего в карман акционерам.
Сиди же тут и золото лижи!!.»
И я пустился вслед за Люцифером.
Вдруг гнусный призрак вырос. «О, скажи,
Кто ты, ужасный грешник, и откуда?
Но стой! Свой лоб закрытый покажи!
На лбу написано: „предатель и Иуда“.
Кто ж ты такой? смолою залит рот,
Чтобы донос не выползал оттуда,
И уши срезаны…» Стонал Искариот,
Сжав кулаки и топая ногами.
С его лица бежал кровавый пот,
Но он не мог пошевелить устами.
«Кто ж ты?» — я вновь допрашивал. В тот миг
Он начал знаки делать мне руками;
Я отскочил, я лишь тогда постиг,
Что встретился с знакомым лицемером,
И вслед ему проклятья бросил крик:
«Будь проклят ты! пусть станет всем примером
Казнь лютая! терзайся и лежи!»
И я опять пошел за Люцифером.
А вкруг меня вставало царство лжи
В дыму костров, которые не гасли…
Там плавали распухшие ханжи
Одной семьей в кипучем постном масле;
Там в грудь певца вселился наглый бес
И заставлял — из злости ль, из проказ ли —
Его тянуть всю вечность ut diez;
Без отдыху трагический ломака
Ревел, как Лир, попавший ночью в лес;
Там, рук лишен, кулачный забияка,
Скрипя зубами, в пламени скакал:
Ему везде мерещились — то драка,
То уличный классический скандал;
Там лихоимцев мучалися о́рды,
Там корчился мишурный либерал,
Которым все мы прежде были горды;
Там в рубище скорбел парадный фат,
И скромностью страдали Держиморды…
И с трепетом блуждал вокруг мой взгляд:
Везде с бичом стоял незримый мститель.
«Но тут еще не весь славянский ад,—
Докладывал мне мой путеводитель.—
Здесь есть отдел „Литературный мир“,
И на него взглянуть вы не хотите ль.
Там звук цитат, бряцанье русских лир,
Занятие ученых, журналистов
Даст тему вам на несколько сатир…»
И тут мой бес, как адский частный пристав,
Открыл мне вход, и я увидел вдруг
Пристанище родных экс-нигилистов.
ПЕСНЬ ВТОРАЯ