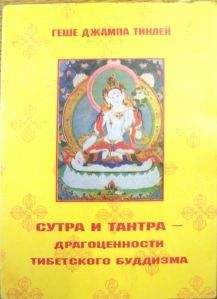Дмитрий Минаев - Поэты «Искры». Том 2
ПЕСНЬ ВТОРАЯ
О муза! выдумай особый звук,
Чтоб ад чадил сквозь каждую цертину,
Чтоб каждый стих был криком тяжких мук
И передал, хоть в очерках, картину,
Которая в аду открылась мне,
Когда явился я на половину
Писателей, томящихся в огне,
Под сводом тартара. В минуты эти
В моем мозгу мелькнул, как в смутном сне,
Картонный ад, ад Роллера в балете,
Где бес наряженный выделывает па,
Где чертенят, приехавших в карете,
По сцене бегает неловкая толпа
И вверх летит по блоку, на веревке,
Звезда танцовщиц русских Петипа —
В короткой юбочке, в классической шнуровке…
Тот детский ад стал для меня смешон,
Как платье королевы на торговке…
Я чуть дышал. Был воздух раскален
И — как сургуч растопленный — жег тело;
Поток огней бежал со всех сторон,
И я едва вперед шагнул несмело,
Вдруг чьи-то зубы в ногу мне впились,
Так, что нога от боли посинела;
Передо мной два трупа поднялись
И стукнулись затылками: их спины
(Мысль адская!) между собой срослись.
Конечно, бес нашел к тому причины,
Недаром он логичнее людей…
Один из двух был стар; его седины
Торчали вверх, как чёлки лошадей.
То был творец покойных «всяких всячин»,
Землей давно оплаканный Фаддей.
Но кто ж другой? Приземист и невзрачен,
Он так взглянул, оскалясь, на меня,
Так рот раскрыл, что был я озадачен.
Людей, и дьявола, и смрадный ад кляня,
Он возопил: «Земля и ад — всё то же,
И в полымя попал я из огня[60].
Как на земле, меж адской молодежи
Я нигилизм, Базаровых нашел,
Волненья здешние с людскими так же схожи,
Пожары те ж, и тот же есть раскол…
Но лишь одним земля мне краше ада,
Одна беда здесь хуже всяких зол —
Здесь клеветать нельзя… Одна отрада
Была мне в жизни: это клевета,
Язвившая смертельным жалом гада,—
И у меня та сила отнята!..»
И взвыла тень, с рыканием шакала,
И пена показалася вкруг рта,
А рядом группа новая вставала:
В чаду зловещих, красных облаков,
Где бездна пасть широко разевала,
На берегу одном стоял — Катков,
А на другом — Леонтьев. Вскинув руки,
Они рвались друг к другу через ров
«Для пользы просвещенья и науки»,
Но пропасть, разлучая навсегда,
Дразнила в них и раздражала муки.
Я крикнул им обоим: «Господа,
Вам кланяюсь!..» — и начал делать знаки,
Они же враз откликнулись: «Сюда
Зачем пришел? Не нужно нам кривляки!..
Смерть свистунам, залезшим на канат,
Смеющимся и пляшущим во мраке!»
«Смерть свистунам!» От воя дрогнул ад,
Отозвались московские кликуши,
Когда-то заселявшие Арбат,
Все «Вестником» пленившиеся души;
И, криком тем застигнутый врасплох,
Я с ужасом заткнул скорее уши,
Иначе непременно бы оглох.
Но замер рев. Я подошел к утесу,
И — странный вид! — вокруг его, как мох,
Лепясь и извиваясь по откосу,
Сидел партер из кровных бесенят,
Всегда везде сующихся без спросу,
А наверху — там был утес так сжат,
Что негде поместить одной ладони,—
Сидел старик. «Сто лет тому назад,—
Так объяснил мой адский чичероне,—
Посажен здесь ваш русский Цицерон;
Чтоб прежний жар не гаснул в Цицероне,
Он в тартаре навеки обречен
Не сдерживать порывы красноречья,
И не молчит уж с давних он времен…»
Я слушать стал. Ах, знаю эту речь я,
Которая разила наповал,
Противника ломая до увечья!..
В ораторе я Павлова узнал.
Измученный ораторским припадком,
Уж много лет он уст не закрывал
И говорил, бросаясь то ко взяткам,
То к юности, провравшейся не раз,
То к митингам, то к разным беспорядкам,
И речь текла, и мысль его неслась
В Париж и в Рим, на Волгу и на Неман…
Когда ж порой, устав от пышных фраз,
Хотя на миг вдруг становился нем он,
Опять в нем возбуждал витийства жар
Безжалостный, неумолимый демон,
И снова им овладевал кошмар
Ораторства, — и слушал я памфлеты.
Вдруг кто-то крикнул сзади: «Bonsoir,
Je vais vous dire…»[61] И кто ж мне слал приветы
На языке Феваля и Дюма?
О дух славян, скажи мне: где ты, где ты?
Москва, Рязань, Орел и Кострома!
Друзья кокошника и сарафана,
Узнайте, с кем сыграла шутку тьма,—
Там я узрел Аксакова Ивана,
Завитого, одетого в пиджак,
С брелоками, под шляпой Циммермана,
В чулках и башмаках à la Жан-Жак…
Ужасней казни для славянофила
Не изобрел бы самый лютый враг,
В котором злость всё сердце иссушила;
Но сатана отлично знал славян —
Напрасно тень Аксакова молила:
«Отдайте мне поддевку и кафтан,
Мою Москву и гул ее трезвона!..»
Но черти перед ним, собравшись в караван,
Читали вслух творения Прудона.
ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ
Меж тем как в тартаре Иван Аксаков,
Услуг чтецов нисколько не ценя,
Входил в азарт при виде шляп и фраков,
Тень новая скользнула из огня,
Которой грудь от вздохов раскололась;
Когда ж она взглянула на меня,
На голове моей встал дыбом волос —
Той встречею так был я поражен.
Ужели в ад попал и самый «Голос»,
И тот, которым был он сотворен?
«Кто ты? — я призрак вопросил несмело.—
Краевский жив, еще не умер он…»
«Я — дух его!» — «Ты отвечай мне дело!
Он на земле, и нет Краевских двух».
— «Там, на земле, мое встречал ты тело,
А дух мой здесь… давно в аду мой дух!!»
И тяжкий вздох из груди вновь прорвался,
Болезненно мой поразивши слух.
И призрак продолжал: «С землей расстался
Я в восемьсот сороковом году,
Но на земле никто не догадался,
Что я давно переменил среду.
И вот теперь я ваш обман нарушу:
Скажи ты всем, что повстречал в аду
Андрея Александровича душу
И что, хоть здесь доходов вовсе нет,
Я дьявола решительно не трушу
И с ним насчет изданья двух газет
Хочу войти в прямое соглашенье.
Сотрудников моих — здесь лучший цвет,
К ним самый бес питает уваженье.
Сергей Громека здесь от сатаны
Особое имеет порученье —
Чтоб черти были тихи и скромны.
А Небольсин? Хоть он не всем приятен,
Статьи его немножко и скучны
И тяжелы… но в ком не сыщешь пятен?..
Но, чтоб врагов туманить и сражать,
Со мною в ад посажен сам Скарятин.
Он нервы всем умеет раздражать,
И тартар весь приходит в содроганье,
Когда Скарятин начинает ржать
(Он сатаною осужден на ржанье!!)».
— «Но чем же ты наказан?» — я спросил.
«Карман мой пуст — нет злее наказанья:
Ад отнял всё, что в жизни я любил,
И золото, добытое годами,
В кипучую он лаву растопил…»
И тень такими плакала слезами,
Что сжалился б, наверно, и Харон.
Я сам слезу почуял под глазами…
Вдруг музыкой был слух мой поражен.
«В аду ли мы, — я крикнул, — иль в танцклассе,
Что слышу здесь я звуки „фолишон“?
Пристало ли веселье к адской расе?»
Смотрю и вижу: десять чертенят,
На скрипках кто, а кто на контрабасе,
Смычком своим неистово пилят,
Так что в ушах трещала перепонка,—
В средине ж круг, где с тенью, падшей в ад,
С визжанием плясали два чертенка;
Когда ж в лицо я грешника взглянул:
«Аско́ченский!..» — не мог не крикнуть звонко.
«Он осужден, — шепнул мне Вельзевул,—
Быть нашим первым адским канканером
И в тартаре поддерживать разгул…»
И в этот миг Аскоченский с задором
Такое па в канкане сотворил,
Что зрители рукоплескали хором:
«Он Фокин наш! Он Фокина убил…»
Но я меж тем, в усталости, в тревоге,
Уже терял запас последних сил
И брел, едва передвигая ноги.
«О проводник! неси меня к земле,—
Я утомлен, измучен от дороги!..»
Но мы наверх всё лезли по скале,
Скользя по крутизне ее мохнатой,
Где всюду искры бегали в золе.
«Смотри вперед, — сказал мне мой вожатый,
Когда мы на вершину взобрались,—
Отсюда виден тартар весь проклятый».
И я глядел с невольным страхом вниз.
Там, под скалой, где цербер адский лаял,
Измученные призраки вились
(От зноя там и самый камень таял);
Те призраки знакомы были мне.
Я узнаю: вот Розенгейм Миха́ил,
Не в силах рифмы приискать к «луне»,
Зовет к себе на помощь Кушнерева;
Вот Бланка тень мяукнула в огне,
Вот тихо стонет призрак Гончарова:
«Отдайте мне удобства и комфорт!
Здесь спать нельзя, здесь пища нездорова»;
Там о театре плачет Раппопорт,
Там ищет Фукс со штемпелем конверта —
В контору «Почты» переслать рапорт.
А вот и тень Старчевского Альберта,
В разлуке с «Сыном», проклинает рок
(Издатели! какой для вас пример-то!..);
Там под собой, исполненный тревог,
Жрец «Времени» всё ищет почвы прочной,
Но только пламя вьется из-под ног
И пятки жжет ему; там ад порочный
Камбека вызывает на протест,
Там о полиции соскучился Заочный,
Арсеньева желанье славы ест,
Там далее… но там, в парах тумана,
Я не видал, что делалось окрест.
Весь смрадный ад, как вскрывшаяся рана,
Слился в пятно… проклятия и стон!..
И я опять, держась за великана,
Понесся вверх… в ушах и треск и звон…
Кровь бьет в виски, подобно адской лаве…
Но миг один — я был перенесен
В свой кабинет, в квартиру дома Граве.
Я на земле. Что это: сон иль явь?
В минуты те решать я был не вправе.
328. МОСКВИЧИ НА ЛЕКЦИИ ПО ФИЛОСОФИИ