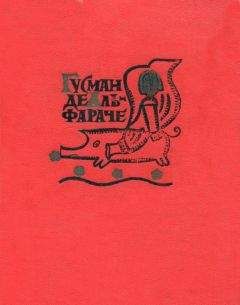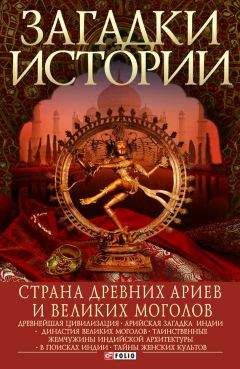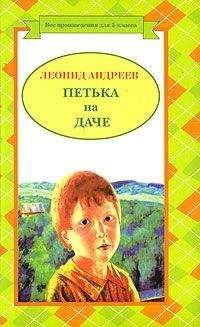Матео Алеман - Гусман де Альфараче. Часть первая
Дворецкий снабдил меня одеждой и выпроводил вон. Я обозлился, точно монсеньер был обязан вечно держать меня при себе, и вышел из дому, бранясь, с намерением никогда не возвращаться. Впоследствии меня не раз убеждали вернуться, передавали от имени монсеньера приветы и обещания простить, объясняли, что было это сделано лишь для моего блага. Но сколько ни говорили мне, что монсеньер по-прежнему меня любит и часто вспоминает, ничто не могло заставить меня смириться, я уперся на своем, воображая, что мщу за обиду. Подло я себя вел и подлую избрал участь, ибо не сумел быть благодарным господу за милости и благодеяния, оказанные мне монсеньером, этим святым человеком.
Справедлив был его приговор: кого нельзя смягчить добрыми делами и тронуть ласковыми словами, того должно укрощать суровым и безжалостным наказанием. Теперь я только руками развожу, о безумии своем вспоминая, — как я ничем не дорожил, будто ни в чем не нуждался! Как презрел добро, мне оказанное ни за что ни про что — не по уму, не по делам, не по заслугам! Как не умел сохранить его и не попытался заслужить еще больших милостей, на которые мог надеяться! Как быстро забыл о заботах монсеньера во время моего лечения! Как неблагодарен был за то, что он избавил меня от нужды! Как бесчувствен к его милосердию! Как беспечно пропускал мимо ушей его наставления! Как заносился, видя его кротость! Как противился ласковым увещаниям! Как глух был к любовным и строгим укорам! Как бессовестно испытывал его терпение! Как злоупотреблял его снисхождением! Как строптиво отвергал все попытки исправить меня! Как недостоин был его доброго обращения и не старался загладить свои проступки!
Будь жив один из двух моих отцов или даже оба, и те в лучшие свои времена не сделали бы для меня так много, не выказали бы столько любви и терпения, как монсеньер. Тот сносил мои бесчисленные и часто злые проказы, в которых я ничем не стеснялся, как если бы жил не в доме моего господина, а в своем собственном. Я держался с ним так неуважительно, будто он был мне ровня, но эта святая душа все мне прощала. Родной отец возненавидел бы меня и покинул бы на произвол судьбы за мои проделки. А монсеньер не возмущался, не гневался.
О, кротость небесная, наследие отца предвечного, велящего творить добро таким, как я! День, неделю, месяц, год, долгие годы он, беспредельно милосердный, терпеливо ждет, дабы не было у нас оправдания и мы, устыдившись, сами вынесли себе приговор по делам нашим.
Во всем я повиновался своим прихотям, к увещаниям был глух как пень. Потворствуя плоти, ко многим порокам склонной, я шел к погибели. Предавался я им неустанно, искал их неусыпно, упорствовал в них неизменно и сдружился с ними неразлучно. И стали они мне столь же сродны, сколь чужда добродетель. Но не могу я в этом винить природу, ибо она равно наделила меня наклонностью ко злу и стремлением к добру. Нет, вина тут моя, природа же всегда разумна: она учит истине и стыду, дает все необходимое. Но грехи портят нашу природу; погрязнув в них, я принял следствие за причину и сам себя загубил.
ГЛАВА X
о том, как Гусман де Альфараче, выгнанный кардиналом, поступил на службу к французскому послу, и о некоторых его проделках у нового хозяина. Он рассказывает историю, слышанную от одного неаполитанского дворянина, и на том кончает первую часть своего жизнеописания
Роптать на то, что монсеньер прогнал меня, я не вправе: как я уже упомянул, немало усилий он приложил, чтобы меня вернуть; но молодая кровь бурлила во мне, и блага своего я не понимал — вернее, благо почитал злом, а зло благом.
Беспечно шатался я по улицам Рима; мои дружки, с которыми я спознался в лучшие дни, такие же слуги, как я, угощали меня бесплатно, но я за это дорого заплатил: трапеза в дурном обществе, питая тело, губит дурными соками душу. Лакомые кусочки насыщали меня, а пагубные советы и примеры развращали, и осталось от всего этого одно раскаяние, ибо погибель свою уразумел я слишком поздно, когда вода к горлу подошла.
Пороки подбираются к нам исподволь, тихой сапой, и объявляются, когда ты уже человек пропащий. Заполучить их легко, отвязаться от них трудно. И дружки-приятели тут как мехи: они раздувают слабый огонек, и из искры занимается пожар.
Я мог получать пропитание, как и прежде; дворецкий кардинала предложил мне ежедневно приходить или посылать за едой; но из упрямства я отказался, предпочитая жить впроголодь среди дурных людей, нежели быть сытым по милости людей добрых. Вскоре те, кто подбивал меня отказаться от харчей и на кого я надеялся, отвернулись от меня. Им надоело кормить бездельника, и они не только перестали меня потчевать, но еще и возненавидели. Не так-то просто быть гостем. У хозяев на языке мед, а под языком лед. Они щедры на слова и скупы на дела, радушно приглашают и с неохотой угощают.
Хорош гость званый, богатый да такой, что не засиживается; заходить он должен, пореже, уходить пораньше и, главное, не являться к столу, а не то надокучит. Пусть встречают тебя любезно, не верь словам. Я так понимаю: у родственника гости неделю, у любящего брата — месяц, у лучшего друга — год, а у дурного отца — хоть всю жизнь.
Лишь отцу родному никогда не надоешь, а всем прочим скоро станешь в тягость; чем дольше загостишься, тем больше опротивеешь, и до того тебя невзлюбят, что готовы будут отравы подсыпать. А если, к примеру, пригласит тебя человек, у которого всем домом заправляет скаредная, сварливая жена, если у твоего приятеля есть мать или сестра, словом, женщина в семье, — а они почти все прижимисты, — то-то начнутся слезы да вопли, все на свете проклянут и самих себя не помилуют! Помни, что дома и солома съедома, а в гостях и павлинья грудка что подошва.
Я быстро наскучил своим приятелям, и они, не дожидаясь, пока мне станет стыдно, сами отвадили нахлебника — кормили все хуже, неохотней, а там и вовсе сняли с довольствия.
Пришлось тогда искать тенистое дерево, чтобы под его сенью укрыться и его плодами прокормиться. Нужда так прижала меня, что я, подобно блудному сыну, согласился бы вернуться в дом монсеньера хоть поденщиком. С голоду я еле ноги волочил. Смирившись и твердо положив исправиться, я готов был пойти с повинной, да поздно спохватился. Кто не хочет, когда может, уже не сможет, когда захочет; злая воля губит благие возможности.
Прошло всего два месяца — и от прежних милостей фортуны не осталось и следа. Я так и не вернулся к монсеньеру, у которого на самый худой конец имел бы, как последний из его слуг, пожизненное пропитание и мог бы надеяться на его милости. Но раз вышло иначе, хвала господу. Не могу сказать, что виною моих бед враждебная звезда; нет, я сам, бесстыжий, накликал их на свою голову. Звезды на нас влияют, но не понуждают.
Глупцы, пожалуй, скажут: «Ах, сеньор, видно, так оно должно было статься, а чему надлежит быть, тому и подобает быть». О брат мой, сколь превратно понимаешь ты истину — ей самой вовсе не надлежит и не подобает быть; это ты творишь ее такой, как ей подобает быть. Тебе дана свободная воля, дабы ты управлял собой. Никакая звезда, ниже весь небосвод со всеми звездами его не властны тебя понудить; сам ты понуждаешь себя отвращаться от блага и обращаться ко злу, повинуясь пагубным страстям и обрекая себя на горести.
Я поступил в услужение к французскому послу, который был с монсеньером, царство ему небесное, в большой дружбе и частенько потешался над моими проказами. Посол и раньше с охотою переманил бы меня, но не желал огорчить друга. Новый мой хозяин обходился со мной тоже хорошо, однако цель у него была иная: монсеньер делал все для моей пользы, а посол помышлял лишь о собственном удовольствии, которое я и доставлял ему, отпуская остроты, рассказывая истории и разнося цидулки его любезным.
Мне не назначили ни места, ни обязанностей, да и жалованья не определили. Иногда деньги давал мне хозяин, иногда я их сам брал при нем с шутками да прибаутками. Яснее сказать, я был у него вроде потешника, а люди называли меня бесстыжим фигляром.
Когда бывали у нас гости, а бывали они почти всегда, мы с большим усердием прислуживали тем, кто держался учтиво, и ловили на лету их желания. Зато глупцам, надоедам, нахалам, которые являлись незваные, мы чинили всевозможные каверзы. Одним вовсе не давали пить, словно то были дыни, которые растут и без поливки; другим подносили вина на самом донышке, в кувшинчиках с узким горлышком; кому подольем побольше воды, а кого угостим теплым вином. Если кушанье им нравилось, мы незаметно убирали его со стола, а затем снова ставили, круто посолив, наперчив и полив уксусом. Чего только мы не придумывали, чтобы напакостить этим нахлебникам и отвадить от дома!
Помню, некий англичанин, назвавшись родственником посла, зачастил в наш дом к превеликой досаде хозяина, ибо гость этот вовсе не приходился ему родней и к тому же был человеком безвестным, худородным, а главное — весьма развязным, докучным собеседником. Иные люди одним своим видом вселяют отвращение, другие пленяют с первого взгляда; ненависть эта и любовь равно возникают помимо их воли и желания. Этого англичанина ничем нельзя было пронять: он был туп как бревно.