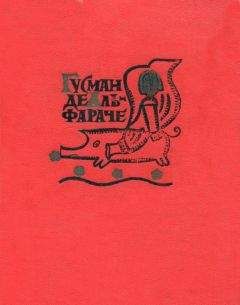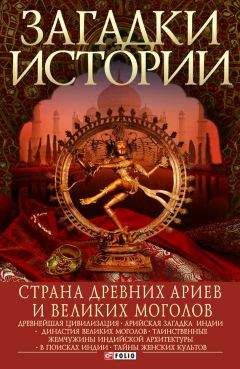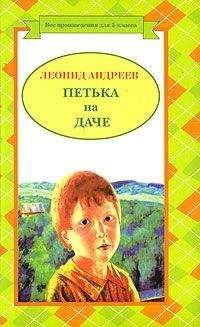Матео Алеман - Гусман де Альфараче. Часть первая
Поднялся тут шум превеликий. Вышла Кривда и сказала: «Друзья мои, чего вам надо? Рехнулись вы, что ли? Ведь за все, что вы приносили, вам платили, я сама это видела; деньги вам вручали в присутствии Правды. Пусть она подтвердит, ежели вам довольно такого свидетеля». Пошли к Правде спросить, как было дело. Она сделала вид, будто спит, но ее разбудили криками. Помня о прошлом случае, когда ей довелось пострадать за свои речи, Правда заколебалась — как быть? И вот решила она притвориться немой, дабы не расплачиваться за других, а тем паче за своих врагов. Так и осталась у нее эта привычка.
С той поры Правда нема — больно дорого ей стоили речи; кто правду правит, тот и платит. А мне Кривда и Правда представляются струной и колком в музыкальном инструменте. У струны звук нежный, мягкий и приятный, колок же скрипит, ворчит и насилу повертывается. Струна легко уступает, растягивается, пока ее не настроят, а колок едва поворачивается, когда на него нажимают и тянут его с силой. Колок — Правда, струна — Кривда. Когда Кривда нажимает на Правду и тянет ее за язык, она скрипит, ворчит, упирается, но под конец начинает поворачиваться и растягивать Кривду, пока та не лопнет, сама же Правда остается в целости.
Если бы держался я Правды, то, невзирая на все муки, обиды и огорчения, наверняка достиг бы тихой гавани. Но я предался Кривде, обману и плутовству; они свели меня с пути, да сами лопнули. Не вывезла кривая: и понесло меня от беды к недоле, что дальше, то хуже, из ямы да в пропасть.
И вот я — паж. Дай бог, чтобы на этом кончились мои беды! Но кого насильно понизят или возвысят, тот непременно стремится обратно на свое место. Меня исторгли из моего рая и низвели до положения слуги. Вскоре ты увидишь, как нерадив я был к службе. Далеко побежишь — быстро умаешься. Кого вознесут вот так, одним духом, со дна наверх, тому никак не устоять на ногах. Если не пустит дерево корней, то не будет родить и скоро засохнет. Не сумел я пустить корней на новой должности и, прослужив несколько лет, не дал добрых плодов. От пикаро до пажа — слишком большой скачок, хотя они одного поля ягоды, только одеты по-разному, и мудрено мне было бы уцелеть.
Говорят, чем больше почета, тем сильней его жаждешь. Со мной случилось обратное: я был сыт по горло и тем почетом, в котором жил. Видно, ко мне больше подходила другая поговорка: где родился, там и годился. Попробуй вынуть рыбу из воды и разводить там павлинов, заставь вола летать, а орла пахать, корми коня песком, сокола соломой и отними у человека забавы. Я тосковал по котлам земли египетской; мое место было в погребке, трактир был центром моего круга и порок — целью моего пути. В них я находил отраду, в них искал спасения, а все иное отвергал.
В бытность пикаро я избаловался, привык лакомиться всем, чего душа пожелает, дрыхнуть, пока глаза не распухнут; руки от безделья стали как шелк, брюхо как барабан, лицо лоснилось от жирной пищи, на ягодицах мозоли наросли от сиденья, и вечно я жевал, заложив за обе щеки, как мартышка. Каково же было мне перейти на скудные харчи слуги и торчать в прихожей день-деньской, а порой и ночь напролет с подсвечником в руке, стоя, как журавль, на одной ноге и подпирая стену; когда поужинаешь, а чаще — нет; вечно дрожи от холода, поджидая, пока придет или выйдет посетитель; бегай без отдыха по лестницам то вверх, то вниз, точно морской прибой или кузнечный мех; повсюду сопровождай хозяина, стой на запятках и в вёдро и в ненастье, зимой весь в грязи, летом — в пыли; прислуживай за столом, истекая слюной и пожирая глазами лакомые блюда; беги отнести письмо, принести ответ, стаптывай башмаки и, пока тебе не выдадут новые, по две недели в месяц ходи разутый.
И так круглый год, от первого января до тридцать первого декабря. А спросят: «Сколько за год накопил? Что заработал?» — ответить недолго: «Служу из милости, сеньор, за то, что кормят меня и поят — зимой дают простывшее, а летом горячее, — да всегда в обрез, скверно и не вовремя. Ношу ливрею, что пожаловали хозяева, заботясь не о моем удобстве, а о своем удовольствии, не о моем здоровье, а о своей славе. Справили они ее на свой вкус да на мой счет; вырядили меня на мои деньги да в свои цвета. Зато чего достается вволю, это насморков — целый мешок, не подымешь, дружок; да чирьев и струпьев немало для забавы перепало, да других таких ягодок и конфеток».
Как начинались холода, мы, бывало, выручали по десять — двенадцать куарто за кусочки воска, которые отщипывали от свеч и сбывали сапожнику. А посчастливится отхватить целый огарок, ты — богач: соришь деньгами, покупаешь пирожки и сласти, но если накроют, получишь такую взбучку, только держись! Вот и все, что можно было стащить, и то не часто; дали бы мне волю, я бы по огарку натаскал столько — хоть открывай свечную лавку. Да где там! Отколупнешь малость от своей или чужой свечки — вот и вся пожива.
Товарищи мои были такая мелкота, что и не пытались стянуть что-нибудь получше, если не считать съестного, которое сразу уничтожалось и на продажу не шло. Да и тут они вели себя как ослы. Как-то один из пажей, убирая со стола соты, украдкой завернул их в тряпицу и сунул в карман. Но спрятать добычу в надежном месте он не успел, так как надо было прислуживать за столом; от жары мед растаял и потек по ногам пажа. Монсеньер, сидя за столом, все это видел и, сдерживая смех, приказал ему подтянуть чулки. Паж повиновался. Но едва он дотронулся до чулок, как перепачкал руки медом и от стыда совсем потерялся. Много там было смеха, но бедняге-пажу от этого меда пришлось не сладко: его так отодрали, что он снова весь измарался, только уж не медом.
Ей-же-ей, это был не я, со мной бы в жизни такого не случилось! Плутовское дело я знал до тонкости и еще не забыл прежних своих штучек. А чтобы не притупился клинок, я походя таскал всякую мелочь у других слуг. Собрались там, во дворце, одни остолопы и разини, которых и младенец вокруг пальца обведет, народ неприветливый, злобный и сварливый. Человеку надобно брать пример с доброго рысака или борзой: есть дело — мчись во всю прыть, а дела нет — держись скромно и смирно.
Пажей было много, да все, как я сказал, увальни, недотепы, которые не старались отличиться ни на глазах у хозяина, ни за его спиной. Что приказания выполнять, что с постели вставать — еле поворачивались. Вот и нравилось мне пощипывать этих растяп, лентяев и простофиль: таскать у них чулки, подвязки, воротнички, шляпы, платки, пояса, манжеты, башмаки и прочее, что попадалось под руку. Все это я запихивал в тюфяк своего соседа, чтобы ненароком не нашли у меня, и при случае выменивал хоть на старую подкову, только бы с рук долой. Да, нашим пажам приходилось глядеть в оба за своими пожитками, а кто зазевался, чего-нибудь недосчитается.
Немало я там напроказил, отчаянный был ветрогон. А тут еще объявилась у меня страстишка, о которой я и понятия прежде не имел, — стал я лакомкой. Потому ли, что не давали есть вволю и от жадности аппетит разгорался, или возраст такой подошел; с годами, говорят, меняются привычки и вкусы.
Меня тянуло к сладкому, как слепого к церковной паперти. Уж если замечу какое лакомство, его от меня и под землей не укроешь. Руки мои орлами налетали на добычу, и как олень одним своим дыханием извлекает змей из недр земных, так и я — лишь взгляну на еду, она мигом оказывается у меня во рту.
Был у монсеньера большой сундук из белой сосны, какие держат в Италии. Немало их я видел и у нас в Испании: в них привозят разные итальянские товары, особливо стеклянную и глиняную посуду. Сундук этот стоял в чулане рядом со спальней кардинала, и в нем хранились всевозможные засахаренные плоды и сушеные овощи, до которых монсеньер был большой охотник. Были там груши бергамот из Аранхуэса[194], генуэзские сливы, гранадские дыни и севильские цедраты, апельсины из Пласенсии[195], лимоны из Мурсии, огурцы из Валенсии, фиги с Островов[196], баклажаны из Толедо, персики из Арагона, картофель из Малаги[197]. Туда прятали артишоки, морковь, тыкву, тысячи сортов варений и маринадов, которые смущали мой ум и тревожили душу.
Всякий раз когда монсеньеру приходила охота отведать какого-нибудь из этих лакомств, он давал мне ключ, чтобы в его присутствии я достал из сундука то, что надо, но никогда не оставлял меня одного с ключом. От такого недоверия во мне зародилась злоба, а от злобы — жажда мести. Я наяву грезил этим сундуком: «Боже всесильный! Как бы мне расправиться с ним?» Я уже сказал, что сундук был большой: в длину локтя два с половиной[198], да один локоть в высоту и столько же в ширину, из белого-белого дерева с прожилками тоненькими, точно кружево из Камбре[199]. Отличной работы был сундук, покрытый лаком, окованный железом и с крепким замком посередине.
Ежели ты знаком с воровским делом или же наслышан о нем, тебе, думаю, любопытно будет узнать, как я забрался в этот сундук, не подделывая ключа, не взламывая замка, не срывая петель и не ломая досок. Погоди, сейчас расскажу. Когда мне выпадал черед стоять у дверей спальни, а кардинал был занят приемом гостей или другими неотложными делами, я принимался орудовать своим инструментом. Поддев с одного края крышку сундука, я загонял в щель деревянный клин и, действуя им, как рычагом, засовывал туда круглую палку, выточенную наподобие рукоятки молотка, с утолщением к одному концу. Палку эту я поворачивал, задвигая все дальше под крышку, и та приподымалась. А руки у меня были тонкие, мальчишечьи, — я вытаскивал из сундука все, что мне вздумается, и набивал сластями полные карманы.