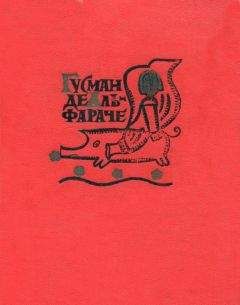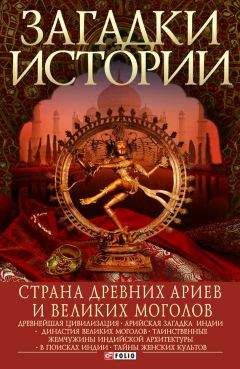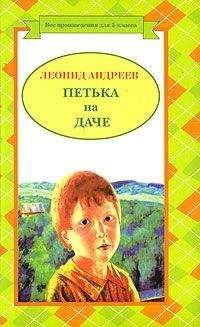Матео Алеман - Гусман де Альфараче. Часть первая
Капитан зачислил меня в свой отряд и приписал к офицерскому столу, обращаясь со мной чрезвычайно учтиво. Дабы не остаться в долгу, я всячески ублажал его и одаривал, соря деньгами по-княжески, хоть говорят, что «на все вторники ушей не напасешься»[166], и не в каждом городе ждали меня бакалейщик, река и роща, где можно укрыться от кого угодно. Я транжирил деньги вовсю, швырял их, не считая, часто присаживался к карточному столу, причем обычно проигрывал, и кошелек мой все тощал.
Так я развлекался до выступления в поход, когда для раздачи жалованья весь отряд собрали в церкви, откуда нас выкликали по одному. Вызвали и меня, но казначей, взглянув на мое лицо, сказал, что я слишком молод и, согласно распоряжению, он не может занести меня в список. Я возмутился и в гневе едва не наговорил ему таких дерзостей, о которых сам бы пожалел, ибо они завели бы меня слишком далеко.
Чего только не сделает богатая одежда! Давно ли меня били смертным боем, шею сворачивало набок от оплеух и подзатыльников, но тогда я молчал и терпел, а теперь соломинка показалась мне с оглоблю и распалила во мне неистовую ярость. В тот миг я испытал на себе, что и от вина не хмелеет человек так, как от первой вспышки гнева, который помрачает наш разум, не оставляя ни единого луча здравого смысла. К счастью, подобная горячка быстро проходит, не то ни один зверь не сравнился бы с человеком по свирепости.
Внезапный пожар так же быстро и погас. Немного успокоившись, я сказал:
— Сеньор казначей, лета мои малые, зато велико мое мужество; сердце повелевает, рука сумеет действовать шпагой, и крови в жилах станет на доблестные дела.
Казначей с большой мягкостью ответил:
— Все так, сеньор солдат, я искрение верю вашим словам, но приказ есть приказ, и, коли его нарушу, мне придется платить из собственного кармана.
На столь благоразумный довод я не нашелся что возразить, хотя с лица моего еще не сошла краска гнева.
Капитан был так огорчен учиненным мне афронтом, словно оскорбили его самого. Когда мое имя вычеркнули из списка, он испугался, что я оставлю отряд, и стал бранить казначея; не будь тот человеком ко всему привычным, могла бы вспыхнуть крупная ссора.
Наконец шум улегся, жалованье роздали, и капитан пришел в гостиницу навестить меня; в самых изысканных выражениях он высказал глубокое сочувствие моему горю и, не скупясь на лестные слова и обещания, сумел меня вполне успокоить.
Велика власть красноречия! Как наездник, умело действуя уздечкой, укрощает строптивого коня, так учтивыми речами можно подчинить своей воле рассерженного человека, уговорить его сменить гнев на милость и отказаться от прежнего намерения. Даже если бы я твердо решил уехать, капитан убедил бы меня остаться.
Мы беседовали довольно долго. И правду сказать, немало толковали о том, что храбрым людям нынче не дают ходу и армия пришла в упадок, что за воинские подвиги награждают скупо, что придворные ради своей выгоды докладывают о них ложно, что все идет вкривь и вкось, ибо всяк помышляет не об успехе дела, а о собственном преуспеянии. Если одному из этих сановников дана власть и он распоряжается и повелевает — пусть с наилучшими помыслами, — то другой непременно будет мешать и вредить в его делах, чтобы самому оказаться у власти; ради этого завистник изыщет тысячи окольных путей и способов, стакнется с его врагами, ополчится на его друзей — лишь бы умножить свои доходы и повернуть воду на свою мельницу.
Такому хотелось бы сравняться с самим королем и вознести свое кресло к облакам, чтобы никто до него не дотянулся. На словах эти люди служат королю, а на деле думают только о себе; так земледелец воздевает руки к небесам лишь затем, чтобы ударить мотыгой по земле. Они затевают войны, нарушают мирные договоры, изменяют своим обещаниям, разоряя государство, грабя жителей и обрекая душу свою на адские муки.
Сколько начинаний кончилось неудачей, сколько крепостей утрачено, сколько армий разбито! А к ответу требуют люден неповинных, потому что так угодно правителям. Ибо зло для них благо, а благой исход был бы для них злом. Да, куда ни глянь, дело дрянь.
— Вы только вообразите, ваша милость, — сказал капитан, — до чего уже дошло! Ведь нарядный мундир, перья, яркие цвета — все это окрыляет воина и помогает ему идти без страха на любые твердыми и свершать доблестные дела; а здесь, в Испании, нас корят за пышные наряды. Им, видимо, хотелось бы, чтобы мы одевались точно стряпчие или бедные студенты — траурный плащ да берет, одни обноски и черное тряпье! Мы и так унижены паче меры, ибо те, кто должен нас чтить, отнюдь не благоволят к нашему брату. Одно слово «испанец» некогда покоряло страны и повергало в трепет весь мир, а ныне, за грехи наши, слава его почти совсем утрачена. Мы обанкрутились вконец, и никакие крепости тут не помогут. Но мы были, есть и будем испанцами.
Да просветит господь и наставит тех, кто повинен в наших бедствиях и чинит зло своему королю, вере, родине и самим себе. Время, сеньор дон Хуан, подтвердит истинность моих слов и раскроет перед всеми огромный урон, наносимый алчностью царедворцев. От нее рождается ненависть, от ненависти — зависть, от зависти — распри, от распрей — беспорядки. Судите сами, чем все это может кончиться. Но не горюйте, ваша милость, мы выступаем в поход. Италия — это другой мир, и там, даю слово, я выхлопочу вам чин батальонного командира. И хотя ваша милость достойны большего, это послужит началом для вашего возвышения.
Я его горячо поблагодарил; мы попрощались. Капитан хотел идти один, я настаивал, что провожу его до гостиницы. Он мне не позволил. На следующий день отряд выступил и двигался без остановки, пока мы не добрались до берега моря, а сеньор капитан — до дна моего кошелька: деньги летели без счету. Нам пришлось долго ждать прибытия галер — около трех месяцев; доходов никаких не было, и мой кошелек становился все легче.
Немало помогла этому и страсть к игре; не в один день, но постепенно я потерял все. Как незадачливый боец, я, не сломав копья, вернулся на свое место и стал посмешищем для всех.
О, как жалел я тогда о своем неразумии! Как горько упрекал себя! Как горячо обещал себе исправиться, когда уже ни бланки в кармане не осталось! Сколько спасительных мыслей пришло мне в голову, когда лишился я последней опоры! Зачем было так глупо влюбляться? Зачем было так пышно наряжаться? Кто заставлял меня сорить деньгами? Что толку было в том, что я просаживал их в карты, не скупился на гостиницы, осыпал подарками капитана? В передние рвался, а последним остался! Не гонись за удовольствиями, глупец!
Уразумев свою дурость, я прямо с ума сходил оттого, что лишился былого почета. Теперь уже никто меня не обхаживал и не угождал ребяческому моему тщеславию. Друзья, которыми я обзавелся в дни благополучия, обильный офицерский стол, отряд, куда меня собирались зачислить, — все будто унесло и выжгло суховеем, все исчезло в мгновение ока, как пролетевшая стрела, как сверкнувшая молния. Прежде я не знал, куда деньги девать, а теперь пришлось последнее с себя снимать — вещь за вещью сдирали с меня, разоблачая, как мальчика, которого в день святого Николая нарядили епископом и чтили, пока не кончился праздник, а затем раздели донага[167].
Те, кто гордился дружбою со мной, те, кто навещал и развлекал меня, угощался на моих ужинах и пирушках, нынче, когда кошелек мой опустел, махнули на меня рукой, перестали узнавать и разговаривать. Больше того, мне даже не разрешили ехать с отрядом. Добрые стали злыми, любезные — надменными, приятели — недругами, и все из-за моей бедности, словно она была преступлением, за которое меня надо наказать. Теперь я имел право дружить и знаться только с носильщиками отряда. Вот до чего я дошел, и поистине справедливо говорится: «По делам и награда».
ГЛАВА X
о том, как Гусман де Альфараче служил у капитана до прибытия в Италию
Как горько мне было начинать все сначала, какой тяжкой казалась жизнь, как сетовал я на новую неудачу! Но ремесло носильщика было мне знакомо — мулу барабанщика пальба не страшна[168]. Я быстро приноровился к делу, — благо тому, кто знает разную работу и не полагается на блага преходящие, что появляются и исчезают столь же быстро, как черпаки вертящейся нории.
Утешало меня то, что за дни благополучия я приобрел некоторое уважение, сгодившееся мне в черные дни. Став бедняком, я почитал за немалое богатство то, что люди помнили о моем благородстве, которое я подтвердил своими делами. Капитан был со мной по-прежнему учтив, памятуя об оказанных ему услугах; он даже готов был помочь моей беде, но не мог, ибо сам был в такой же. Он обращался со мной не менее уважительно, чем в первое время нашего знакомства, видимо, из почтения к моим высокопоставленным, как он полагал, родителям.