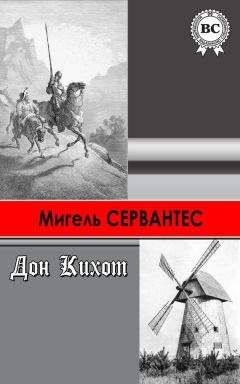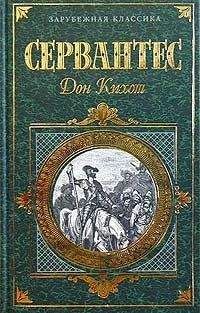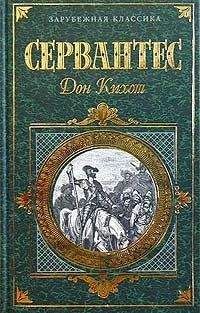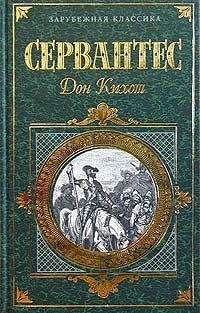Карл Мориц - Антон Райзер
Таковы были его жизненные обстоятельства, когда на пасхальные каникулы он отправился навестить родителей. Здесь он нацепил шпагу, которой закололся в роли Филота, и снова и снова разыгрывал эту сцену перед своими братьями, отнюдь не рассказывая им о своем изгойстве в школе и о презрении, его окружавшем, но, напротив, выискивая приятное и лестное для себя: как ректор взял его с собой в компанию священников, как он посещал частные уроки английского, как участвовал в факельном шествии с музыкой, как оно было обставлено и проч.
Даже из собственных мыслей он, как мог, постарался изгнать все неприятное и унизительное, желая предстать в благоприятном, выгодном свете, сколь ни жалким было его положение в действительности.
В таком приятном самообольщении он провел у родителей несколько дней, но облегчение, которое он почувствовал, выйдя из ворот Ганновера и понемногу отвлекшись от вида четырех городских башен, лишь усугубило тяжесть, навалившуюся на его сердце, когда он вновь приблизился к городским воротам и перед его взором опять поднялись четыре башни, словно четыре булавки, отмечавшие на карте область его неисчислимых страданий.
Особенно устрашающей показалась ему граненая, увенчанная лишь маленьким шпилем рыночная башня, к которой примыкала его школа – насмешки, издевательства и перешептывания одноклассников снова всплыли в его сознании при виде этой башни: на огромный циферблат ее часов он обыкновенно бросал взгляд, когда торопился в школу, боясь опоздать. Башня эта, как и старинная рыночная церковь, была построена в готическом стиле, из красного кирпича, давным-давно почерневшего от времени.
Рядом, на этой же площади, преступникам объявляли смертные приговоры, – словом, фантазия Райзера связала с этой башней все, что только могло его сокрушить и погрузить в тяжелую тоску.
Едва ли охватившая его тоска могла усугубиться сильнее, узнай он в ту минуту, что еще суждено ему испытать в нынешнем месте его пребывания. Но если год назад, когда он, как теперь, возвращался в Ганновер из родительского дома, его печаль все же имела свои причины, то на сей раз причин было куда меньше, так как ужаснейшая минута его жизни еще только предстояла.
Но и не полагая в нем особого дара предвидения, можно счесть его тоску совершенно естественной, стоит лишь себе представить, как он в воображении пробегал узкие круги своего существования: школу, хор, ректорский дом – в этих сужающихся кругах, стеснявших все его стремления, он обречен был вращаться снова и снова. С какой охотой он променял бы тогда свое житье в Ганновере на самую темную из тюремных камер, заключавшую, без сомнения, куда меньше ужасного и страшного, чем его нынешнее положение.
Когда он, погруженный в тяжелые мысли, приблизился к городским воротам, в голове его молнией пронеслась мысль, все вокруг осветившая и вновь все представившая в лучшем свете, – он вспомнил, что еще в родительском доме слышал о приезде в Ганновер театральной труппы, собиравшейся играть там целое лето.
Это была труппа Аккермана, которая в то время объединила в себе почти все рассеянные по Германии жемчужины немецкой сцены.
Скорыми шагами Райзер поспешил в город, который недавно был ему так ненавистен, а теперь вновь сделался милее всего на свете, и, не заходя домой (время было еще раннее, так как то место, где он заночевал по пути, лежало всего в нескольких милях от Ганновера), устремился к замку, где, как он знал, висела афиша с указанием актерского состава, – там он увидел, что нынешним вечером объявлена «Эмилия Галотти».
Пока он читал афишу, сердце его трепетало от радостного предвкушения – всеми правдами и неправдами он желал пробраться в театр и увидеть на сцене пьесу, исторгшую у него столько слез, часто потрясавшую его до глубины души, но до сих пор разыгрываемую только в его воображении.
Пропустить вечерний спектакль было никак нельзя, сколько бы ни стоил входной билет. Придя домой, он обнаружил, что в комнате, где он спал, работники белят стены и что-то в ней перестраивают, так что жить в ней совершенно невозможно. Плачевный вид его укромного пристанища еще настойчивей гнал Райзера из действительного мира, но с тем большей истомой ждал он предстоящего спектакля.
Куда бы ни явился, он не мог скрыть своей радости; первое, о чем он заговорил, войдя в комнату госпожи Фильтер, была «комедия» (за что она потом долго его упрекала), так же случилось и в доме его кузена, где ему пришлось ночевать на полу, пока его комната в доме ректора не сделалась пригодной для жилья.
Приводимый ниже состав исполнителей дает примерное понятие о том, какое воздействие постановка «Эмилии Галотти» оказала на душу Райзера, находившуюся в столь возбужденном состоянии.
Покойная Шарлотта Аккерман играла Эмилию, ее сестра – Орсину, г-жа Райнике исполняла роль Клаудии, Борхерс – Одоардо, Брокман – Принца, Райнике играл Аппиани, Дауэр – Конти. Где еще «Эмилия Галотти» могла быть исполнена с таким совершенством?
Как мощно была захвачена душа Райзера, когда мир его фантазии как бы воплотился на его глазах! С этих пор он уже не мог думать ни о чем, кроме театра, и, кажется, совсем забыл о своих прежних надеждах и видах на будущее.
Все деньги, что удавалось раздобыть, он тратил на театр, без которого уже не мог провести ни одного вечера, даже когда приходилось экономить на самом необходимом. Ради театра он порой по целым дням довольствовался хлебом с солью – если матушка ректора из сострадания не присылала ему какой-нибудь еды.
Вдобавок летом он снова вселился в свою комнату, где мог оставаться в одиночестве – блаженство, которое он не променял бы и на самую изысканную еду.
Мысль о вечернем представлении утешала его по утрам, когда он просыпался в мрачном настроении, а в ином он никогда и не просыпался. Ибо презрение и насмешки товарищей, а вместе с ними и чувство собственного ничтожества не прекращались и отравляли ему жизнь. Отрешиться от этого он мог, единственно лишь притупляя внутреннюю боль, излечиться от нее он был не в состоянии, каждый день все повторялось снова, и пусть фантазия по нескольку часов кряду рисовала перед ним обманчивые картины, все же в глубине души он ненавидел и проклинал свое существование.
Обильными слезами, проливаемыми над книгами и в театре, он оплакивал не только свою судьбу, но и судьбы персонажей, возбуждавших его участие. Чуть ближе или чуть дальше, но он всегда сознавал себя в стане безвинно притесняемых, неудовлетворенных собой и всем миром, отягощенных горем и ненавидящих самих себя.
Палящий летний зной часто гнал его из комнаты в кухню или на двор, где он устраивался с книгой на куче дров и нередко поневоле прятал лицо и заплаканные глаза, когда кто-то проходил мимо.
Его снова пленила «joy of grief», услада слез, известная ему с раннего детства, когда он тоже был лишен всех других радостей жизни.
В этом своем настроении он зашел столь далеко, что даже при чтении комических пьес, таких, как «Охота», содержащих всего несколько трогательных сцен, больше плакал, чем смеялся. Но о том, какое действие тогда производила такая пьеса, можно опять-таки судить по составу исполнителей: Шарлотта Аккерман играла Рёсхен, ее сестра – Ханхен, госпожа Райнике – мать, Шрёдер – Тёффеля, сам Райнике – отца и Дауэр – Кристеля.
Если какое-либо внешнее обстоятельство могло привить острый вкус к театру, то, оставляя в стороне изначальную склонность Райзера и особые условия его жизни, таковым стал случай, сведший столь превосходных артистов в одной труппе.
Отсюда легко заключить, как были представлены «Ромео и Юлия», «Месть» Янга, опера «Кларисса», «Евгения» – пьесы, произведшие на Райзера самое сильное впечатление.
Театр до такой степени захватил его мысли, что он каждое утро начинал с того, что буквально проглатывал афишу, каждый раз скрупулезно прочитывая все надписи: «Начало – ровно в полшестого» или: «Представление состоится на сцене Королевского дворцового театра», а уж случайно встретив на улице кого-либо из известных актеров, испытывал почти такой же трепет, как некогда в Брауншвейге при виде пастора Паульмана. Все, что касалось театра, вызывало в нем благоговение, и он многое бы отдал, чтобы свести знакомство хотя бы с чистильщиком театральных канделябров.
Еще за два года до этого он успел пересмотреть «Геркулеса на Эте», «Графа Ольсбаха», «Памелу» с Экхофом, Беком, Гюнтером, Хензелем, Брандесом, его супругой и г-жой Зайлер в самых лучших ролях, и с тех пор самые трогательные сцены из названных пьес запали в его память, а Гюнтер в образе Геркулеса, Бек в роли графа Ольсбаха и Эстер Шарлота Брандес в роли Памелы, сменяя друг друга, являлись его воображению почти ежедневно. Все прочитанные им пьесы он вплоть до прибытия в город Аккермановой труппы разыгрывал в своей фантазии именно с этими актерами.
Благодаря такому совпадению оказалось, что ему посчастливилось увидеть всех лучших немецких актеров, которые в иное время были рассеяны по всей Германии.