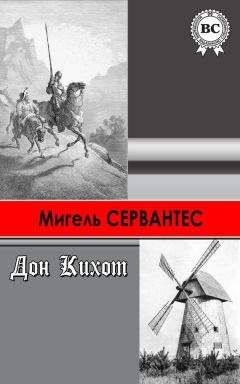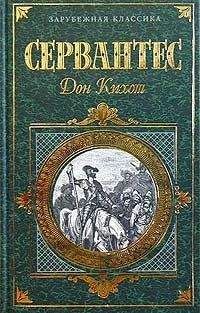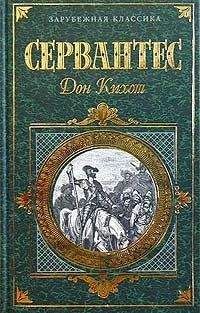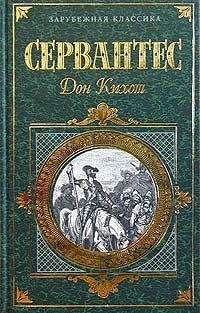Карл Мориц - Антон Райзер
Все его внешние обстоятельства и отношения с окружающим миром были ему так ненавистны, что ему постоянно хотелось зажмурить глаза. Ректор дома звал его по имени, как зовут слуг, и однажды ему пришлось звать к столу школьного товарища, который приходился сыном одному из друзей ректора, и пока тот ужинал вместе с ректором, Райзер должен был подносить вино и дожидаться в комнате для прислуги рядом с гостиной, где они угощались и откуда до него доносился разговор этого юноши с ректором, тогда как сам он оставался сидеть рядом со служанкой.
Ректор давал школьникам несколько частных уроков, когда же по какой-то причине урок отменялся, Райзеру, который обычно тоже посещал эти уроки, надлежало обойти всех учеников и сообщить им об отмене, что лишь увеличивало их презрение к нему.
Подобное пренебрежение со стороны окружающих вполне объяснимо: ко всему, что происходило вне его «я», Райзер был абсолютно безучастен и к любому делу, отвлекавшему от его собственного духовного мира, относился досадливо и равнодушно. Стоит ли удивляться, что в нем, безучастном, люди тоже не хотели принимать участия, что они отвечали ему презрением, обходили его стороной да и вовсе о нем забывали?
Не понимали они лишь одного – что его поведение, из-за которого они им пренебрегали, само было следствием людского пренебрежения в более раннем его возрасте. Вот это-то пренебрежение, возникшее из-за целого ряда случайных обстоятельств, и породило такое его поведение, а вовсе не наоборот, как они думали: будто поведение юноши было причиной всеобщего пренебрежения к нему.
Так пусть это заставит всех учителей и педагогов быть осмотрительнее в своих суждениях о развитии характера молодых людей и внимательно учитывать воздействие на него бесчисленных и случайных обстоятельств, тщательно их исследовать, прежде чем дерзнуть своим суждением решать судьбу человека, которому, быть может, хватило бы одного ободряющего взгляда, чтобы внезапно переродиться, поскольку вовсе не природные черты характера, но особое стечение обстоятельств могут стать причиной его на взгляд столь дурного поведения.
Видимо, участью Антона Райзера было воспринимать благодеяния как муку. Разве не благодеянием стало для него проживание в доме госпожи Фильтер? Но какой мукой и тягостью обернулся тот год для Райзера! А приглашение ректора жить у него в доме? Но сколько унижений и презрения со стороны школьных товарищей пришлось ему перенести во время пребывания в этом доме, рисовавшегося ему в столь заманчивом свете!
Никто из наблюдавших Райзера со стороны не мог сказать о нем ни одного доброго слова. Сам ректор сказал о нем пастору Маркварду, что ему в жизни не суждено подняться выше сельского учителя. Позднее и пастор Марквард снова напомнил ему об этом, и суждение ректора, которому Райзер в ту пору еще не мог противопоставить собственного мнения о себе, еще больше его подавило.
Поскольку же ректор, по всей видимости, действительно полагал, что подняться Райзеру все равно не суждено, то и приспособил его к чему возможно – к разным мелким поручениям по дому и вне дома, так что Райзер, хотя и числился старшеклассником, по сути дела стал у него слугой.
Все-таки однажды ему довелось воспользоваться правами старшеклассника, это случилось, когда он, позаимствовав из отпущенных ему «хоровых» денег, вложил свою долю в новогодний подарок для ректора и за это получил право участвовать в факельном шествии, ибо на Новый год по установившемуся обычаю ученики приветствовали директора и ректора музыкой и выкликали в их честь здравицу.
И хотя ему отвели место в самом хвосте шествия, дух его необычайно приободрился, ведь, несмотря на пережитые унижения и обиды, он вновь оказался как бы включенным в общее целое и, со шпагой на поясе и факелом в руке, кричал «виват!» вместе с остальными.
Музыка, толпа зрителей, пламя факелов, предводители шествия в шляпах с плюмажами и шпагами наголо – все это наполняло его новым воодушевлением, так как он и сам был частью этой сверкающей процессии.
Когда же на следующий день он вместе с другими старшеклассниками присутствовал при сопровождаемом латинской речью вручении ректору серебряного блюда с новогодним подарком, в коем была и его доля участия, он с известным удовлетворением снова почувствовал, что принадлежит действительному миру, что не вовсе исключен и не вытеснен из него. Но как ужасно злоба и высокомерие школьных товарищей отравили ему и это маленькое удовольствие!
Ректор угощал старшеклассников, вручавших подарок, вином и пирожными. Те снова и снова провозглашали тосты за его здоровье и под конец, когда вино ударило им в голову, изрядно расшумелись. Райзер выпил несколько бокалов вина, не чувствуя дурных последствий, хотя, по непривычке к вину, уже после первых двух слегка захмелел. И тут его благомыслящие товарищи затеяли напоить его допьяна, что посредством хитрости, а то и угроз им удалось вполне: Райзер понес ужасающую чепуху и под конец вечера был препровожден в кровать.
Если и прежде доверие к Райзеру и мнение о нем всех знакомых были донельзя низкими, то последнее происшествие нанесло по его репутации непоправимый удар. Раньше он слыл лишь лентяем, неряхой и нерадивцем, теперь же о нем заговорили как о невоздержанном и дурном человеке, поскольку, живя в доме у своего учителя и благодетеля, он своим недостойным поведением явил всем неблагодарнейшее из сердец.
Все эти последствия Райзер смутно прозревал и, одеваясь поутру, твердо решил вымолить у ректора прощенье за свое вчерашнее поведение.
Он наизусть вытвердил свою речь, где между прочим заверил ректора, что постарается всеми способами смыть с себя это пятно, ректор же довольно сухо возразил, что последствия этого случая, если он станет известен, скрыть будет весьма трудно.
И ректор оказался прав, молва о происшедшем быстро разнеслась, и все говорили одно: Как? Юноша пользуется благодеяниями, даже принц тратит на него деньги, живет он у своего благодетеля, предоставившего ему кров, гостеприимно его приютившего, – и ведет себя подробным образом!
Но хотя последствия случившегося не заставили себя ждать и весьма огорчали Райзера, все же на следующий день, когда хористы обсмеяли его за бледный и помятый вид – плод вчерашней попойки, он странным образом испытал нечто вроде гордости, как будто похмелье придало ему удальства, и он еще нарочно пошатывался, чтобы этим притворством привлечь к себе больше внимания.
Ведь всеобщее внимание, в котором на этот раз было больше своего рода одобрения, чем насмешки, льстило ему. К тому же на него смотрели так, как люди обычно смотрят на попавшего в ту же беду, в какую порой попадали они сами, ведь префект хора, к примеру, сам нередко ходил под хмельком; тайное удовлетворение, испытанное Райзером, возомнившим, будто он смог отличиться благодаря дурному поведению, являет собой опаснейшую ловушку, коей не минует большинство молодых людей.
Между тем гордыни у Райзера заметно поубавилось, когда он вскоре почувствовал на себе последствия, напророченные ректором. Повсюду встречал он холодные и презрительные взгляды. По этой причине он все чаще стал пропускать свои бесплатные обеды, предпочитая голодать или питаться хлебом с солью, лишь бы не чувствовать на себе подобные взгляды. Лишь у сапожника Шанца он по-прежнему бывал с удовольствием, так как взгляды его домашних всегда светились дружелюбием и никто здесь не заставлял его расплачиваться за превратности его злой судьбы.
В то время ему еще и в голову не приходило оправдывать свои прегрешения. Куда больше, чем себе, он доверял мнению окружающих и лишь корил себя и горько упрекал за недочеты в учении, за пристрастие к чтению, за провинность перед букинистом. Он еще не мог постичь, что все его провинности суть естественное следствие крайне скудных обстоятельств, в коих он вынужден был существовать. В таком-то душевном состоянии, восстав на самого себя, с фантазией, распаленной от недавно прочитанной трагедии, он написал отчаянное письмо отцу, изобразив себя как величайшего преступника и употребив такое непомерное число тире, что его отец не знал, как и быть с этим письмом, и всерьез усомнился в душевном здоровье его автора. Между тем письмо было неотделимо от позы, какую в то время принял Райзер. Он находил особый род удовольствия в том, чтобы – подобно героям многих трагедий – рисовать себя самыми черными красками и с истинно трагической страстью ополчаться на самого же себя.
Поскольку никто в мире, не исключая и его самого, не был ему другом, чего он мог желать сильнее, как только забыть самого себя?
Букинистическая лавка сделалась по этой причине его постоянным прибежищем, без нее он не вынес бы своего существования, которое в иные часы умел сделать не только вполне сносным, но даже приятным, – когда, например, собирал в доме своего кузена, изготовителя париков, небольшую аудиторию, пусть и не слишком блестящую, и со всей доступной ему выразительностью декламировал перед нею какую-нибудь из своих любимых трагедий, «Эмилию Галотти», «Уголино» либо что-то слезное вроде Гесснеровой «Смерти Авеля», испытывая неописуемый восторг, когда замечал в глазах слушателей слезы, в коих прочитывал верное свидетельство, что его заветная цель – трогать сердца своим чтением – достигнута.