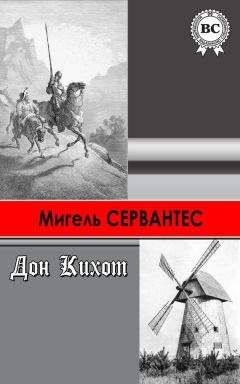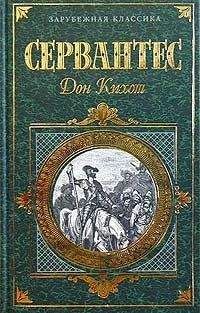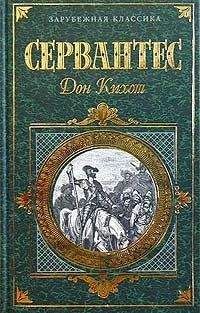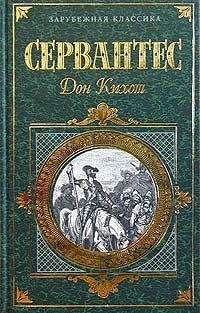Карл Мориц - Антон Райзер
За этим занятием он нередко проводил полдня – так бессильная детская месть разрушавшей его судьбе создала своеобразный мир, который он сам мог разрушать по своему произволу. Сколь детски смешной ни показалась бы эта игра стороннему наблюдателю, в основе своей она была лишь ужаснейшим следствием, быть может, самой крайней степени отчаяния, до которой только могло довести смертного человека сцепление жизненных обстоятельств.
Отсюда, впрочем, можно видеть, как недалек он был тогда от буйного помешательства. И все же его душевное состояние было небезнадежным, покуда в нем еще теплился интерес к детской игре в сливовые и вишневые косточки, но только – пока интерес не возрождался: стоило ему начать рисовать пером на бумаге маршруты войсковых передвижений или процарапывать их ножом прямо на столе, как наступали ужаснейшие минуты: само существование ложилось на него невыносимой ношей, и это рождало в нем не боль или грусть, а досаду, – он начинал дрожать всем телом, и ничего ему не хотелось больше, чем, наконец, стряхнуть ее с себя.
Дружба с Филиппом Райзером не стала ему подспорьем, поскольку и у того жизнь складывалась немногим лучше – и как два странника, обреченные на муки жажды посреди раскаленной пустыни, бывают не в силах ни вести беседу на ходу, ни поддержать друг друга – таковы же были отношения между Антоном Райзером и Филиппом Райзером.
Но в это время тот самый Г., который некогда играл умирающего Сократа (откуда и пошла кличка Райзера), решил к нему переселиться. Обстоятельства их были схожими, хотя, в отличие от Райзера он довел себя до такого положения собственным небрежением. В нем Райзер обрел достойного компаньона.
Вскоре к ним присоединился еще один юноша, крестьянский сын М., дела которого шли столь же плохо, как и у этих двух. Так в четырех стенах собрались трое людей, беднее коих едва ли когда приютила хоть одна комната. Проходило по нескольку дней, а они все перебивались с кипятка на хлеб. Правда, Г. и М. имели еще кое-где бесплатные обеды.
Г. был, в сущности, неглупый юноша, с прекрасной речью, и, вообще говоря, Райзер испытывал к нему большое уважение. Однажды их обоих охватило необычайное усердие, они вместе принялись за чтение Вергилиевых эклог и испытали чистейшее наслаждение, когда, с великим трудом выбрав одну из них, каждый сделал и записал ее перевод. Но это, конечно, не могло продолжаться долго: стоило им вспомнить о своем бедственном положении, как охота к учению немедля пропадала.
Платье у Г. и М. было ничуть не лучше, чем у Райзера, поэтому, выходя из дома, они являли собой живописную картину неряшества и разорения, так что люди указывали на них пальцем и они, отправляясь на загородную прогулку, всегда выбирали обходные пути и узкие улочки.
По большей же части эти трое вели жизнь, отвечавшую их положению: нередко целыми днями оставались в постели или все трое сидели, уронив голову на руки, и раздумывали о своей доле. Часто они разлучались, и тогда каждый предавался своему излюбленному занятию: Райзер опускался на пол и устраивал смотр своим вишневым косточкам, М. колдовал над большим куском хлеба, который держал в тщательно запертом сундуке, а Г. валялся на кровати и лелеял разные замыслы – как всякий раз выяснялось, неосуществимые. Райзер тем временем, сидя на полу среди вишневых косточек, читал и перечитывал две книги, не имея никаких других: сочинения философа из Сан-Суси и Александра Поупа в переводе Душа – обе он позаимствовал у сапожника Шанца.
Однажды все трое решили совершить прогулку по прекрасной округе Ганновера, вдоль реки, в середине которой возвышался небольшой остров, сплошь поросший вишневыми деревьями. Вид этих деревьев, густо усеянных ягодами, так неудержимо манил трех наших побродяг, что они не смогли противиться желанию перебраться на остров и полакомиться прекрасными плодами.
Случилось так, что как раз в это время по реке сплавляли лес и множество плывущих бревен стеснились в узком месте реки, составив таким образом удобный с виду мост для переправы.
Под предводительством Г., который, как видно, поднаторел в исполнении подобных замыслов, они пустились в рискованное предприятие, едва не стоившее им жизни. Из образовавшегося в воде навала они вытащили несколько бревен и перенесли в то место, где расстояние от берега до острова казалось самым коротким. Затем стали сооружать мост: понемногу продвигаясь вперед, кидали перед собой в воду одну лесину за другой. И конечно, этот мост стал под ними разъезжаться и все трое попадали в воду, не пройдя и половины опасного пути. Но, хотя и с риском для жизни, они все же выбрались на остров.
Тут ими овладела жажда грабежа и разорения: каждый набросился на свое деревце и начал с яростью его обдирать.
Они словно брали с бою какую-то крепость – хотели стяжать добычу и получить награду за преодоленную опасность, ими же самими учиненную.
Наевшись до отвала и набив вишнями карманы, носовые и шейные платки, шляпы и все что могли, они в наступивших сумерках пустились в обратный путь по опасному мосту, часть которого уже успела унести река, и, хотя были отягощены добычей, все же благополучно добрались до берега – больше благодаря удаче, чем собственной ловкости и осторожности.
Райзер находил подобные вылазки вполне для себя приемлемыми, так как не усматривал в них воровства, но даже ставил их себе в заслугу – как требующие изрядного мужества набеги на вражескую территорию.
И кто знает, в какие еще отчаянные предприятия пустился бы он под водительством Г., если бы прожил рядом с ним подольше.
Однако по своему характеру этот Г. был скорее ушлым пройдохой, чем добрым малым. В нем достало низости обокрасть своих же товарищей, Райзера и М., – позднее выяснилось, что он стащил несколько книг и других вещей, у них еще остававшихся, и потихоньку их продал.
В общем, Г., с которым Райзер жил в одной комнате, был отпетым мошенником. Он мог по целым дням валяться в постели, измышляя новые и новые каверзы, но о добродетелях и морали говорил как по писаному, отчего Райзер поначалу и возымел к нему такое уважение.
Ибо сам он возвысил добродетель до столь беспримерного идеала, что даже это имя – добродетель – вызывало у него слезы.
Под этим именем, однако, он мыслил нечто столь всеобщее, а само понятие представлялось ему столь туманным, столь неприменимым к отдельным случаям, что ему никак не удавалось исполнить самое искреннее свое желание – сделаться добродетельным, поскольку он не имел представления, с чего следует начать.
Однажды погожим теплым вечером он возвращался с одинокой прогулки домой, и вид природы так размягчил его сердце, что слезы невольно полились у него из глаз и в вечерней тишине он поклялся самому себе отныне ни на шаг не отступать от добродетели! А поскольку решился он твердо, то и почувствовал небесное блаженство, так как ему казалось почти невозможным вновь отступиться от этого окрыляющего решения. С такими мыслями он заснул, а когда утром проснулся, в сердце его зияла все та же пустота – день ему предстоял хмурый и унылый, все его отношения с людьми были навеки порушены, невыносимая докука жизни заступила место вчерашней размягченности чувств, с которой он заснул. Больше всего он хотел теперь избавиться от себя самого – и начал свой путь к добродетели с того, что опустился на пол и расколотил все вишневые косточки, выстроенные в боевом порядке.
Отступиться от этого и прочесть какую-нибудь эклогу из потрепанного Вергилия, еще у него сохранившегося, было бы подлинным шагом к добродетели, но на подобные мелочи – при таком-то героическом настроении – ему размениваться не хотелось.
Пожелай кто-нибудь исследовать представления людей о добродетели, возможно, он убедился бы, что у большинства понятия о ней столь же смутны и запутанны, из чего во всяком случае видно, сколь бесполезно бывает проповедовать добродетель вообще, не разлагая ее на совершенно особые случаи, нередко кажущиеся совсем мелкими и ничтожными.
В то время Райзер и сам удивлялся, как быстро иссякают его внезапные порывы к добродетели, не оставляя по себе никакого следа, но он еще не понимал, что основой добродетели является самоуважение, каковое – в его возрасте – могло опираться лишь на уважение со стороны других людей, без чего прекраснейшее здание его фантазии было обречено на скорое разрушение.
Всякий раз, когда бедственное состояние все же позволяло ему скопить несколько грошей, он тотчас нес их в театр, а когда в середине лета театральная труппа уехала из города, целью его прогулок стал луг за городскими воротами – да и не просто целью, а постоянным пристанищем. Порой он целые дни просиживал там на солнечном припеке или гулял по речному берегу, радуясь, если в эти жаркие полуденные часы ему удавалось избежать встреч с людьми.
И пока он день-деньской предавался здесь своим меланхолическим раздумьям, его воображение незаметно впитывало величественные картины природы, которые лишь через год начали постепенно расти и развиваться в его сознании.