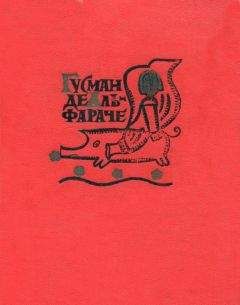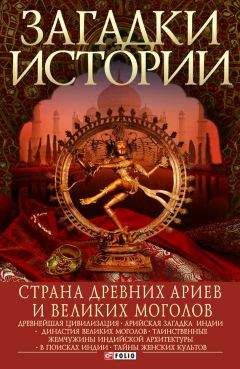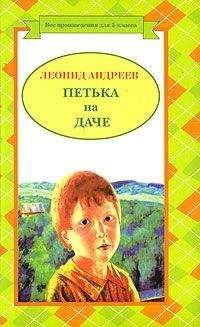Матео Алеман - Гусман де Альфараче. Часть первая
«Те самые доводы, с помощью которых, сеньор дон Родриго, ты намеревался убедить меня, должны и тебя убедить в том, как искренне защищаю я перед Дарахой свою веру и как горячо говорил с ней об этом в многократных и долгих наших беседах. Я желаю того же, что и ты, поэтому я буду действовать так, как если бы защищал собственное дело. Но Дараха всем сердцем любит своего нареченного, а моего господина, и я знаю, что пытаться обратить ее в христианство означало бы лишь увеличить ее страдания: ведь в сердце Дарахи еще теплится надежда на то, что судьба может перемениться и даровать ей исполнение заветных желаний. Это я слышал от нее самой; она всегда мне это повторяет, и, насколько могу, судить, решение ее неколебимо. Но, чтобы исполнить твой приказ, хоть я и не жду никакого успеха, я снова заведу с ней об этом разговор, а потом сообщу тебе ее ответ».
Во всем, что говорил мавр, не было ни словечка неправды, но дон Родриго, у которого и в мыслях не было заподозрить что-либо, не постиг истинного смысла его слов и понял из них не то, что Осмин хотел сказать, а то, что хотелось слышать ему, дону Родриго. Так обманутый молодой кабальеро исполнился доверия к мавру, ибо кто искренне любит, сам себя обманывает даже там, где нет обмана.
Осмин так опечалился, услышав признание в замысле, грозившем ему бедой, что от ревности едва не лишился рассудка. С этого дня подозрения неотвязно терзали его, улыбка исчезла с его лица, и невозможное стало казаться ему возможным. Он спорил сам с собой, воображая, что новый соперник, человек влиятельный в краю своем и в семье, увлеченный страстью, прибегнет к козням и хитростям и помешает ему, Осмину, достигнуть своей цели. Он боялся, как бы Дараху не окрестили, ибо огонь мощных батарей пробивает брешь в крепчайших стенах, а при помощи тайных подкопов их взрывают и повергают в прах. Трепеща от страха, он рисовал себе самые мрачные картины и роковые последствия. Не то чтобы он в это верил, однако ж опасался, ибо был совершенным влюбленным. Дараха же, видя, что дорогой ее жених день ото дня все более печален, загорелась желанием выведать у него причину, но Осмин ничего ей не говорил и ни словом не обмолвился о беседе с доном Родриго. Она не знала, что и делать, как развеселить любимого, и однажды с улыбкой на лице и мужеством в сердце молвила ему, подкрепляя свои слова нежным взглядом и слезами, орошавшими ее ланиты:
«Владыка моей судьбы, мое божество, супруг мой и повелитель! Какая кручина терзает тебя столь сильно, что даже я не способна отогнать ее? А ведь я жива, я с тобой. Быть может, я могла бы ценой своей жизни возвратить тебе веселье? О, как охотно я отдам ее, дабы вместе с жизнью и душа моя вышла из ада твоей скорби, где ее терзают жестокие муки! Да рассеет ясное небо твоего лица мрак моего сердца! Если я для тебя что-нибудь значу, если любовь моя достойна награды, если страдания мои способны пробудить в тебе жалость, если не хочешь, чтобы я тайно лишила себя жизни, умоляю, открой мне, какая скорбь тебя гнетет».
Тут Дараха умолкла, ибо рыдания душили ее, отняв дар речи и у Осмина, который не мог ей ответить иначе как горячими и страстными слезами; каждый стремился осушить слезы другого, но, сливаясь в один ручей, они текли и текли, заменяя слова.
Стараясь подавить вздохи, рвавшиеся из его груди, Осмин не выдержал и упал в глубоком обмороке, будто мертвый. Испуганная Дараха не знала, что делать, как привести его в чувство и утешить, не понимая, чем вызвана эта перемена в ее друге, который всегда с нею был весел. Она отирала ему лицо и осушала слезы, смахивая их своими прелестными пальчиками, так как ее дорогой узорный платок, расшитый золотом и серебром, драгоценным бисером и жемчугом, был уже совсем мокрый. Так прониклась она скорбью своего возлюбленного, так поглощены были все ее чувства желанием помочь ему, что, не оглянись она вовремя, дон Родриго застал бы их в тесном объятии: голова Осмина покоилась на коленях Дарахи, и его рука все крепче обнимала ее стан по мере того, как сознание возвращалось к нему. А когда ему уже стало лучше и он собрался уйти, в саду показался дон Родриго.
Дараха в смятении поспешно отошла в сторону, забыв на земле роскошный свой платок, который Осмин мигом подобрал и спрятал. Видя, что дон Родриго приближается, девушка удалилась из сада, оставив юношей вдвоем. Испанец спросил, есть ли надежда на успех. Осмин отвечал то же, что и прежде: «Она так неизменно любит своего нареченного, что не только отказывается принять христианство, как ты желаешь, но даже, будь она христианкой, отреклась бы ради любимого от веры и перешла бы в мусульманство. Нет предела ее безумию, ее преданности вере своей и ее жениха. Когда я завел речь о твоем деле, ее охватила неудержимая ненависть к тебе за то, чего ты домогаешься, а за мое посредничество — и ко мне, и она сказала, что ежели услышит от меня еще хоть слово об этом, то откажется знаться со мной; от тебя же, сам видишь, она убежала при одном лишь твоем приближении. Итак, не утруждай себя понапрасну и не теряй времени — все это ни к чему».
Крепко огорчился дон Родриго такой решительной и резкой отповедью. Он заподозрил, что Осмин действовал не столько ему на пользу, сколько во вред, и подумал, что, если ответ Дарахи и был так суров, Осмин все же мог бы не повторять все в точности и как бы от своего имени. Любовь и рассудительность — вещи несовместные: чем сильнее человек любит, тем больше беспорядка в его мыслях. Дону Родриго вспомнилось все, что говорили о нерушимой преданности Осмина первому хозяину. Он решил, что эта дружба, наверно, еще жива и что такое пламя не могло угаснуть под пеплом времени. Эти мысли только разожгли его страсть, и он вознамерился прогнать садовника из дому, убедив отца в том, сколь опасно пребывание близ Дарахи такого человека, который, беседуя с ней о прежней любви, поддерживает это чувство; тем более что король и королева намерены обратить Дараху в христианство, а пока Амбросио живет у них в доме, добиться сего будет трудно.
«Сделаем опыт, сеньор, — сказал он отцу, — разлучим их на несколько дней и посмотрим, что из этого выйдет».
Совет сына понравился дону Луису, и он тотчас же, придравшись к садовнику за мнимые провинности, изгнал его из своего дома; чья власть, того и правда: любой капитан докажет своим солдатам, что в двух восьмерках пятнадцать очков[97]. Итак, Осмина нежданно-негаданно выставили за дверь, запретив показываться вблизи дома. Бедняга не успел даже проститься. Повинуясь хозяину, он постарался скрыть, как велико его горе, и ушел, вернее, ушло лишь его тело, единственное, что ему принадлежало, а душа осталась у своей владычицы.
При этом внезапном повороте судьбы Дараха решила, что скорбь Осмина была вызвана опасением угрожавшей ему немилости и что он заранее об этом знал. Одно горе соединилось с другим, одна печаль с другой печалью, одна мука с другой мукой, — как ни старалась несчастная затаить свою скорбь, невозможность видеть любимого была для нее сущей пыткой. В горе надобно вздыхать, стенать, плакать, говорить и кричать; хотя бремя скорби этим не сбросить, а все же оно станет легче и меньше будет угнетать. Девушка так грустила, так тосковала, что по ее лицу нетрудно было разгадать томившее ее чувство.
Влюбленный мавр не пожелал покинуть свое простое звание; он по-прежнему остался поденщиком и в одежде труженика шел трудной своей судьбе навстречу; в этом платье ему однажды уже повезло, и он надеялся, что будущее принесет ему еще более крупный выигрыш. Как простой поденщик, не гнушаясь никакой работой, он переходил с места на место в ожидании, что ему посчастливится услышать или узнать что-либо для него важное; иной цели у него не было, ибо денег и драгоценностей, взятых из дому, с избытком хватило бы на то, чтобы жить без нужды долгое время. Но Осмин не менял своего платья как по упомянутой причине, так и потому, что в городе его уже знали как простого работника и в этом виде он мог ходить повсюду, не опасаясь, что его изобличат и воспрепятствуют его замыслам.
Когда молодые кабальеро, вздыхавшие по Дарахе и знавшие о ее привязанности к Осмину, услышали, что он больше не служит у дона Луиса, каждый из них захотел привлечь мавра как помощника в своих намерениях, о которых уже говорила вся Севилья. Более других преуспел дон Алонсо де Су́ньига, владелец майората в этом городе, — молодой, любезный и богатый кабальеро, который был уверен, что бедняк Амбросио не устоит перед золотом и поможет ему победить соперников. Он призвал мавра, познакомился с ним, щедро одарил деньгами и ласковыми словами, и завязалось меж ними нечто вроде дружбы, если таковая возможна между господином и слугой; разумеется, дружба встречается во всех сословиях, но о подобных отношениях принято говорить более точно: «Слуга попал в милость к господину». Через некоторое время кабальеро открыл Осмину свое желание и посулил большую награду; это признание лишь усугубило муки юного мавра и растравило его раны.