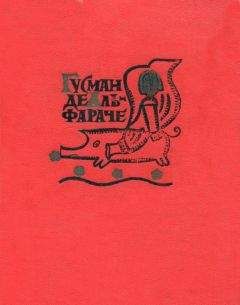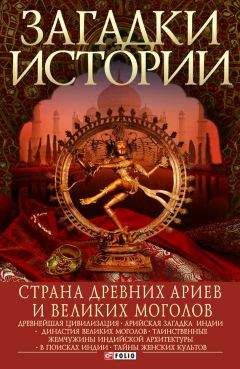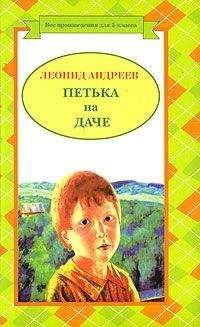Матео Алеман - Гусман де Альфараче. Часть первая
Как бы я хотел удержать в памяти все благие наставления доброго каноника, чтобы повторить их здесь, — то были слова, идущие прямо с неба, чистейшее Священное писание. Я тогда искренне решил следовать его поучению. Ежели рассудить, говорил он сущую правду. Есть ли лучшая месть, чем когда мог отомстить, но не отомстил? И что хуже мести — этой страсти к насилию? Что больше позорит нас пред богом и людьми, нежели месть, дозволенная лишь диким животным? Она свидетельство трусости и малодушия; лишь в прощении славная для нас победа. Мститель становится ответчиком, тогда как, простив, мог бы стать истцом. Разве мыслима бо́льшая дерзость, чем та, когда творение хочет завладеть правами творца своего, составить себе капитал из чужого достояния и, присвоив его, скрыться? Если ты сам себе не принадлежишь и ничего в тебе нет твоего, как может обидчик лишить тебя чего-то? Пытаясь отомстить, ты вступаешь в соперничество с твоим владыкой, сиречь с богом; предоставь же мщение ему, и господь рано или поздно воздаст злодею; впрочем, разумно направленное к цели не может прийти слишком поздно. Вырвать месть из рук господа — замысел греховный, нечестивый и бесстыдный. А если бы даже отомстить за оскорбление надлежало тебе, скажи, что на свете благороднее, чем творить благо? А есть ли большее благо, чем никому не причинять зла? Есть. Творить благо тому, кто тебе чинит зло и преследует тебя, — так нам завещано, так и должны мы поступать. Ибо воздавать злом за зло — дело сатаны, а добром за добро — естественный долг человека. Даже зверям он доступен, и когда их не преследуют, они не нападают первые. Но желать и делать добро тому, кто причиняет тебе зло, это деяние более чем естественное, это божественная лестница, возносящая нас к славе вечной, это ключ, отверзающий небеса, это блаженство для души и покой для тела.
Ибо, начав мстить, мы лишаем себя покоя; наша месть вызывает ответную, а там и нашу смерть неминуемую. Так не безумец ли тот, кто, желая избавиться от тесного кафтана, вонзает кинжал себе в бок? Разве месть не что-либо иное, как желание причинить зло ради самого зла, готовность ослепнуть на оба глаза, лишь бы выколоть один? Мы плюем вверх, и плевок попадает нам же в лицо. Это глубоко постиг Сенека, которого однажды лягнул один из его врагов. Дело было на площади, и все вокруг стали уговаривать Сенеку призвать наглеца к ответу, на что он, смеясь, возразил: «Только дурак стал бы тащить в суд осла»[75]. Этим он как бы сказал: мой недруг, лягнув меня, выместил свой гнев, как животное, я же такую месть презираю, ибо я человек.
Что может быть низменней, чем причинить зло, и что возвышенней, чем пренебречь местью? Некто оскорбил герцога Орлеанского, и когда герцог стал королем Франции, кто-то убеждал его отомстить за оскорбление, а это ему было нетрудно сделать. Но король, обратившись к советчику, сказал: «Не подобает королю Франции мстить за обиды герцога Орлеанского»[76]. Если победу над собой полагают величайшей доблестью, то почему же нам не стремиться к сей славе, побеждая наши страсти, гнев и ненависть? За это мы не только обретем райское блаженство, но и в сем мире избегнем многих бедствий, которые лишают нас жизни, умаляют суетную нашу честь и поглощают имущество.
Ах, боже милостивый, как пригодились бы мне слова этого доброго человека, будь я сам добр! Но по молодости лет я пропустил их мимо ушей, утратил сокровище, раструсил зерно по дороге.
Поучительной беседой и наставлениями каноник занимал нас до самой Кантильяны[77], куда мы приехали еще засветло, когда солнце только начинало садиться. Я мечтал об ужине, и погонщик тоже надеялся, что путешественники его угостят. Да не тут-то было. Каноники отделились от нас; они отправились подкрепиться к знакомому, а мы с погонщиком — на постоялый двор.
ГЛАВА V
о том, что произошло у Гусмана де Альфараче с хозяином постоялого двора в Кантильяне
Как только мы расстались со своими спутниками, я спросил погонщика, куда мы пойдем.
— У меня тут есть знакомый трактирщик, — ответил он, — и домишко у него хороший, и сам он большой хлебосол.
И он повел меня на постоялый двор, содержатель которого слыл в округе самым отпетым мошенником, хотя попить и поесть у него можно было вволю; словом, попал я из огня да в полымя, — наткнулся на Сциллу, спасаясь от Харибды.
Наш хозяин держал у себя доброго осла и кобылку галисийской породы. Если и люди, когда нет выбора, не ищут ни красоты, ни молодости, ни изящества, — сойдет любой чепец, хоть на плешивой голове, — не мудрено, что и у животных бывает то же самое. Осел и кобылка всегда ходили в паре, ели в хлеву из одной кормушки, паслись на одном лугу; хозяин не держал их на привязи, а отпускал порезвиться на воле, чтобы они помогали проходить курс наук ослам и лошадям других хозяев. От этого приятного времяпровождения кобылка в конце концов забрюхатела.
А в Андалусии есть строжайший закон, запрещающий случку лошадей с ослами и сурово карающий нарушителей[78]. И вот, когда кобылка в должный срок ожеребилась, хозяин хотел было оставить себе лошачка и вырастить. Спрятав его и продержав несколько дней, хозяин затем понял, что скрыть это дело от соседей не удастся и недруги все равно пронюхают. Опасаясь кары и в то же время не желая упустить свое, он зарезал лошачка в ночь с пятницы на субботу, мясо порубил на куски и положил их в маринад, а голье, потроха, ливер, язык и мозги приготовил на субботу. Как я уже сказал, приехали мы засветло и в добрый час, ибо на постоялых дворах кто раньше придет, тому и почет: и ужин найдется, и постель его ждет. Расседлав ослов, погонщик задал им корму. Я же чувствовал себя таким разбитым, что лег прямо на землю и долго еще не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.
Ляжки у меня онемели, ступни распухли, оттого что ехал я свесив ноги, без стремян, ягодицы омертвели от тряски и в паху будто кинжалом кололо, словом, все тело ломило и к тому же ужасно хотелось есть. Когда спутник мой управился с ослами и подошел ко мне, я сказал:
— А не поужинать ли нам, дружище?
Он ответил, что это было бы очень кстати, ибо время позднее, а завтра надо встать чем свет, чтобы к сроку поспеть в Касалью и забрать груз. Мы спросили хозяина, найдется ли что на ужин. Тот отвечал, что найдется, да такое, что пальчики оближешь.
Хозяин был человек расторопный, смекалистый, веселый, речистый и плут первостатейный. Я-то поверил ему — с виду он был душа человек, а истинного его нрава я еще не знал. Когда я услышал, как он козыряет своими припасами и хвалится, что хорошо накормит, сердце мое возликовало. Я принялся возносить в душе горячие благодарения господу, славя имя того, кто вместе с болезнями ниспосылает лекарства, после трудов дарует отдохновение, после бури — затишье, после огорчения — радость, а после скудного обеда — обильный ужин.
Сам не знаю, рассказать ли вам о забавной обмолвке одного знакомого мне крестьянина из деревни Олиас близ Толедо. Пожалуй, расскажу: в его обмолвке нет ничего неприличного, и допустил ее по простоте душевной старинный христианин[79]. Однажды он играл с друзьями в примеру, и когда третий игрок сбросил лишние карты, второй сказал: «Благословен господь, я выиграл: у меня примера». Тут наш крестьянин, глянув в свои карты и увидев, что все они одной масти, на радостях, что победа за ним, поспешно сказал: «Не очень благословен, у меня флюс»[80]. И если эту смешную историю дозволительно привести кстати, то именно здесь, ибо со мной так и случилось.
Погонщик спросил хозяина:
— Так что там у тебя приготовлено?
— Вчера я зарезал славную телочку, — ответил хитрец, — корова из-за нынешней засухи совсем отощала, на выпасах ни травинки, пришлось телку уже через неделю прирезать. Потроха готовы, только скажите, что подать.
С этими словами он запел игривую песенку и, выкинув коленце, хлопнул рукой по подошве. Тут я совсем приободрился — приятно было слышать, что у него есть нежные телячьи потроха, при одном упоминании о которых у меня слюнки потекли. Усталости как не бывало, и я весело сказал:
— Подавай что хочешь, хозяин!
Тотчас он принес столик, накрытый чистой скатертью, ковригу хлеба, не такого скверного, как в харчевне, флягу доброго вина и свежий салат. Мне с моими дочиста промытыми кишками это было на один зуб, и я охотно променял бы салат на телячий желудок или ногу. Но я не унывал, ибо такая предпосылка способна была сбить с толку любого мудреца и притупить вкус у голодного человека.
Верно говорят тосканцы: нельзя доверять словам женщин, моряков и трактирщиков и еще менее тем, кто сам себя хвалит; обычно, и даже чаще всего, их слова оказываются ложью. После салата хозяин подал тарелки, и на каждой было немного жареных потрохов. Заметьте, немного, ибо много он боялся положить, опасаясь, как бы желудки наши, удовлетворив первый голод и насытившись, не почуяли обмана. Зорко следя за нами, он мало-помалу распалял наш аппетит, а мы, все более голодные, ели с возраставшей жадностью.