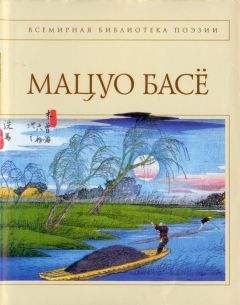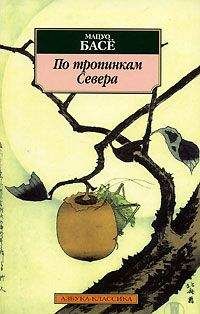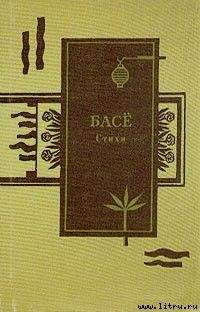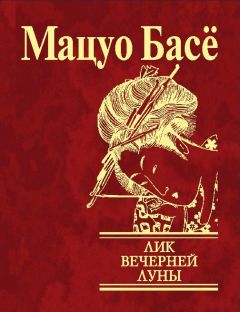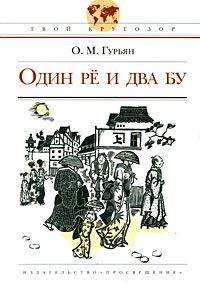Кодзима-хоси - ПОВЕСТЬ О ВЕЛИКОМ МИРЕ
Законом определено, что повторное преступление не прощается, поэтому какие бы оправдания ни приводились, их не принимают. «Одно из двух: либо пропаду по дороге, либо меня зарубят в Камакура», — раздумывал он, отправляясь в дорогу.
Бредёт, приминая ногами
Снег опавших цветов,
В Катано любуется
Весеннею сакурой
Или домой возвращается,
Одевшись парчою багряной листвы,
В осенние сумерки,
Покрывшие гору Араси;
Бывает тоскливо,
Когда хоть одну
Проводит он ночь до рассвета
В дорожном приюте.
Не слабы
Семейные узы любви —
Жену и детей,
Что оставил на родине,
Вспомнил с тоскою,
Не зная, что с ними теперь.
Туда, где за долгие годы
Обжился,
На Девятивратную
Государя столицу
В последний теперешний раз
Оглянувшись,
В нежданный свой путь
Отправляется он,
А в сердце такая печаль!
Не угасит её
Даже Застава встреч.
Её чистыми водами
Свои увлажнив рукава,
Прошёл он в конце
через горный проход
К песчаному берегу Утидэ.
Далёко в открытое море
Свой взор устремив,
Увидел, что в мареве движется
По несолёному морю[192],
Словно это он сам, зыбкая лодка —
Она то всплывёт,
то погрузится в волны.
С грохотом кони
Стучат копытами,
Переходя
Через длинный мост Сэта,
По дороге Оми
Люди идут и туда, и навстречу;
Плачет журавль
На равнине Унэ.
Жаль его —
Не журавлёнка ли он вспоминает?![193]
В Морияма
Идёт и идёт дождь осенний,
Под деревом
Намок уж рукав от росы[194].
Когда ж в Синохара —
на Равнине бамбука,
Где ветром сбивает росу,
Прошёл той дорогой,
Что разделяет бамбуки;
Хоть и была на пути
Кагаминояма, Зерцало-гора, -
Из-за тумана от слёз
В ней отражения не было видно.
Но лишь задумается,
Так даже средь ночи
Там, на траве,
Что в роще Оисо,
Коней остановив,
Назад с тоскою смотрит, —
Но, видно, родину
Закрыли облака…
Вот Бамба, Самэгаи,
Касивабара,
Вот домик у заставы Фува —
Совсем он разрушен,
А стерегут её
Осенние дожди.
Когда ж ему
Придёт кончина?[195]
Перед мечом из Ацута
Священным[196] преклонился.
Теперь, когда отлив
В лагуне Наруми, —
От заходящей здесь луны
Видна дорожка.
В рассвет ли, в сумерки ль
Его дороге
Где конец настанет?
Как в Тотоми[197]
На волнах вечернего прилива
У моста Хамана
Покинутая лодка,
Которую никто не вытащит на берег,
Утонет, —
С ним так же будет,
И тогда его кто пожалеет?
Но вот уж в сумерках
Раздался звон вечерний.
Пора и отдохнуть, — подумал он.
И на почтовой станции Икэда
Остановился на ночлег.
Не в первом ли было
Году эры Гэнряку?[198] —
Тогда военачальник
Сигэхира[199],
Пленённый
Дикарями[200],
На той же станции
Остановился.
Смотрителя же дочь
Стихи тогда сложила —
«На Восточной дороге
В убожестве
Хижины жалкой
Родные места
Он, видно, с тоской вспоминает».
Вспомнив всю до конца
Ту старинную
Грустную повесть,
[Тосимото] залился слезами.
В придорожном ночлеге
Тускло светит фонарь,
Но раздался лишь крик петуха,
И забрезжил рассвет,
На ветру
Уже лошадь заржала —
Путник реку Небесных драконов
Пересекал,
А когда через реку Саё
Переправлялся,
Заслонили дорогу
Белые облака,
Так что вечером, в сумерках,
Не разобрать,
Где же небо над домом родным, —
Как ни гляди.
С какою завистью
Подумал он,
Что Сайгё-хоси[201] в старину
Здесь дважды довелось
Переправляться,
Тогда сложил он: «Такова
Была моя судьба».[202]
Быстры ноги у коня,
На котором скачет время, —
Уж солнце
В полдень поднялось,
Когда, сказав, что уж пора
Давать ему дорожный рис,
Его носилки
Внесли во двор, остановились…
Постучав по оглобле, пленник вызвал воинов конвоя и спросил у них, как называется эта почтовая станция. «Её называют Кикукава, Река хризантем», — был ответ. Во время сражений годов правления под девизом Сёкю[203] его милость Мицутика вызвали в Канто по обвинению в том, что он записывал повеление монашествующего экс-императора, и когда на этой самой станции его собирались казнить, он написал:
Прежде воду Реки хризантем
из уезда Наньян
Черпая в нижнем теченье её,
годы себе продлевали.
Ныне же возле Реки хризантем,
что на тракте Токайдо,
Остановившись на ночь
на западном бреге,
жизнь обрываю себе[204].
След кисти
Из старины далёкой —
Он был. То запись
И о его,
теперешнего пленника,
судьбе.
Печаль его
Всё больше становилась,
И Тосимото
Сложил стихи и на столбе приюта
Начертал:
«Такое в старину
Уже случилось.
Наверное, утопят и меня
В потоке той же
Хризантемовой реки!»
Как миновали
Реку Ои,
Пленник, её названье услыхав,
Знакомое такое[205],
Подумал о том,
Что теперь уже стали
Ночным сновиденьем,
Которое дважды не видят, —
Отъезд государя
В дворец Камэяма,
Вишни в цвету
На Арасияма[206]
Катанье на лодках
С головами драконов
И шеями цапель[207]
И то, как бывал на пирах
С их стихами под звуки свирелей и струн
Миновав
Симада, и Фудзиэда,
И увядшие стебли лиан
У Окабэ[208],
В сумерках,
Полных печали,
Горы Уцу пересёк —
Там разрослись,
Закрывая дорогу,
Винограда и клёна побеги и ветви.
В старину
Нарихира-тюдзё[209],
В восточные пределы
Отправляясь,
Желал найти,
Где поселиться.
Прочтя свои стихи:
«Здесь даже и во сне
Не встретишь человека»,
Он, видно,
То же чувство испытал.
Когда же миновали
Взморье Киёми[210],
Застава из морской волны,
Чей шум пройти мешает
Даже снам,
В которых возвращаешься
в столицу, —
Невольные
Всё больше вызывала слёзы.
Но что же там, напротив? —
Мыс Михо,
А от него пройдя
Окицу и Камбара,
Увидел он
Высокую вершину Фудзи,
Из снега прямо
Встаёт там дым.
Его не спутать ни с чем.
И в мыслях
Равняя дым с невзгодами своими,
В рассветной дымке
Рассмотрел он сосны
И миновал
Равнину Укисимагахара[211] —
Так мелко здесь из-за отлива?
И сам он как селянин,
Что вышел в поле.
Плывёт на лодке[212].
Возвратная повозка — Курумагаэси
— Вращает этот зыбкий мир.
На ней поехал до Такэносита,
Дороге Под Бамбуком,
От перевала Асигараяма
Вниз на Большое с Малым
Морские побережья[213] посмотрев,
Увидел, будто волны
Рукав ему перехлестнули.
Он, правда, не спешил,
Но много дней
В пути нагромоздилось,
И под вечер
В луну седьмую,
день двадцать шестой
В Камакура
Прибыть изволил.
В тот же день, немного погодя, Нандзё Саэмон Така-нао благоволил принять его и передать на попечение Сува Саэмона, Запертый в тесной каморке с крепкими решётками «паутина», он чувствовал себя грешником в преисподней, переданным в Ведомство десяти королей[214], закованным в шейные колодки и ручные кандалы для установления тяжести его грехов.
5
О МНЕНИИ НАГАСАКИ СИНДЗАЭМОН-НО-ДЗЁ И О ГОСПОДИНЕ КУМАБАКА
После того как дело с заговором царствующего государя[215] было раскрыто, приближённые господина из Дзимёин[216] вплоть до самых младших дам из его свиты стали радоваться, считая, что августейший трон скоро перейдёт к их господину, но даже после того, как было совершено нападение на Токи, вестей об этом никаких не последовало. Теперь же, хотя Тосимото и призвали вновь из столицы, об августейшем троне ничего нового слышно не было, поэтому планы людей из окружения господина из Дзимёин нарушались, и многие из этих людей стали «петь о пяти печалях»[217].
Ввиду этого, возможно, и нашёлся человек, давший такой совет, согласно которому от господина из Дзимёин в Канто был тайно направлен посланец, и ему велено было сказать: «Осуществление заговора царствующего государя — дело ближайших дней. Опасность уже нависла. Если воины немедленно не отдадут распоряжение о тщательном расследовании, в Поднебесной скоро может наступить смута». Тогда Вступивший на Путь владетель Сагами в смятении воскликнул: «Воистину, это так!» — и собрал людей из семей главных своих вассалов, а также глав ведомств и членов Верховного суда, спросив мнение каждого: «Как следует поступить с этим делом?». Однако некоторые закрыли свои рты на запор, уступая слово другим, а некоторые из опасения за самих себя не произносили ни слова, и тогда сын Вступившего на Путь Нагасаки, Синдзаэмон-но-дзё Такасукэ, вышел вперёд и почтительно промолвил: