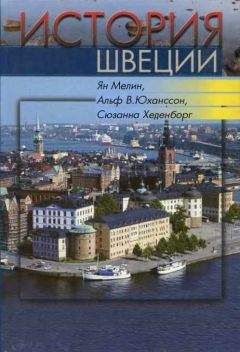Аль-Мухальхиль - Арабская поэзия средних веков
Абу-ль-Ала аль-Маарри
{235}
* * *Зачем надежд моих высокий свет погас
И непроглядный мрак не покидает глаз?{236}
Быть может, позабыв, что людям сострадали,
Вы, люди, вспомните слова моей печали.
Ночь в траурном плаще, настигшая меня,
По красоте своей равна рассвету дня.
Пока вы рыщете по тропам вожделенья,
Полярная звезда стоит в недоуменье.
Воздать бы нам хвалу минувшим временам,
Но времена свои хулить отрадней нам.
Я пел, когда луна была еще дитятей
И тьма еще моих не слышала проклятий:
«О негритянка-ночь, невеста в жемчугах!»
И сон от глаз моих умчался второпях,
Как, потревоженный призывною трубою,
От сердца робкого покой в начале боя.
А месяц блещущий в Плеяды был влюблен,
Прощаясь, обнял их и удалился он.
Звезда Полярная с другой звездой в соседстве
Зажглась. И мне — друзья: «Мы тонем в бездне бедствий,
И эти две звезды потонут в море тьмы,
До нас им дела нет, и не спасемся мы».
Канопус рдел, горя, как девушка земная,
И сердце юноши напоминал, мерцая,
И одинок он был, как витязь в грозный час
Один среди врагов, и вспыхивал, как глаз
Забывшего себя во гневе человека —
Пылающий раек и пляшущее веко.
Склонясь над раненым, стояли в небесах
Дрожащий Сириус и Близнецы в слезах,
А ноги витязя скользили на дороге,
И далее не мог спешить храбрец безногий.
Но стала ночь седеть, предвидя час разлук,
И седину ее шафран подернул вдруг,
И ранняя заря клинок метнула в Лиру,
И та прощальный звон, клонясь, послала миру.
И заняли они мой дом, а я ушел оттуда,
Они глазами хлопали, а я хлестал верблюда,
Я и не думал их дразнить, но эти забияки
У дома лаяли всю ночь, как на луну собаки.
Жизнью клянусь: мне уехавшие завещали
Незаходящие звезды великой печали.
И говорил я, пока эта ночь продолжалась:
«Где седина долгожданного дня задержалась?
Разве подрезаны крылья у звезд, что когда-то
Так торопились на запад по зову заката?»
Приветствуй становище ради его обитателей,
Рыдай из-за девы, а камни оплакивать — кстати ли?
Красавицу Хинд испугала моя седина,
Она, убегая, сказала мне так: «Я — луна;
Уже на висках твоих утро забрезжило белое,
А белое утро луну прогоняет несмелую».
Но ты не луна, возвратись, а не то я умру,
Ты — солнце, а солнце восходит всегда поутру!
О туча, ты любишь Зейнаб? Так постой,
Пролейся дождем, я заплачу с тобой.
Зейнаб, от меня ты проходишь вдали,
Ресницы, как тучи, клоня до земли,
Ты — праздник шатра, если ты под шатром,
Кочевника свет, если едешь верхом.
Звезда Скорпиона в груди у меня.
Полярной звездой среди белого дня
Стою, беспощадным копьем пригвожден,
Твоими глазами в бою побежден.
Я в помыслах тайных целую тебя,
Души несвершенным грехом не губя;
Никто не сулит воздаяния мне,
За мной не следит соглядатай во сне;
Во сне снарядил я в дорогу посла,
С дороги он сбился, но весть мне была:
«В походе откроется счастье глазам.
Верблюдом ударь по зыбучим пескам,
Хоть месяц — что коготь, хоть полночь — что лев,
На сумрак ночной напади, осмелев!»
Пустыня раскинулась передо мной,
Волнуясь, как море, заросшее в зной.
И в полдень очнувшийся хамелеон
Взошел на минбар; был заикою он,
И речь не слетала с его языка,
Пока он не слышал подсказки сверчка.
Устал мой верблюд джадилийский{237} в пути,
Не мог я людей ат-тандуба найти{238}.
Я множество дорог оставил за спиною,
И плачут многие, разлучены со мною.
Судьба гнала меня из края в край вселенной,
Но братьев чистоты любил я неизменно.
Друзьями стали мне года разлук с друзьями.
О расставания, когда расстанусь с вами?
Восковая свеча золотого отлива
Пред лицом огорчений, как я, терпелива.
Долго будет она улыбаться тебе,
Хоть она умирает, покорна судьбе.
И без слов говорит она: «Люди, не верьте,
Что я плачу от страха в предвиденье смерти.
Разве так иногда не бывает у вас,
Что покатятся слезы от смеха из глаз?»
Скажи мне, за что ты не любить моей седины,
Постой, оглянись, я за нею не знаю вины.
Быть может, за то, что она — как свечение дня,
Как жемчуг в устах? Почему ты бежишь от меня?
Скажи мне: достоинство юности разве не в том,
Что мы красотой и приятностью внешней зовем,—
В ее вероломстве, ошибках, кудрях, что черны,
Как черная доля разумной моей седины?
Я получил письмо, где каждой строчки вязь
Жемчужной ниткою среди других вилась.
«Рука писавшего, — промолвил я, — как туча:
То радость, то беду она сулит, могуча.
Как письменами лист украсила она,
Когда ее дожди смывают письмена?»
«Повелевающий высотами земными,—
Так отвечали мне, — как хочет правит ими».
Величье подвига великих не страшит.
Из доброты своей извлек Абу-ль-Вахид{239}
Счастливый белый день, и черной ночи строки{240}
Легко украсили простор его широкий.
Горделивые души склонились к ногам
Беспощадных времен, угрожающих нам.
Даже капля единая слезного яда
Опьяняет сильнее, чем сок винограда.
О душа моя, жизни твоей не губя,
Смерть не тронула крыльями только тебя.
Поражают врага и копьем тростниковым.{241}
Сердце кровоточит, уязвленное словом.
Подгоняя своих жеребят, облака
Шли на копья трепещущего тростника,
Или то негритянки ходили кругами,
Потрясая под гром золотыми жезлами?
Если кто-нибудь зло на меня затаит,
Я, провидя коварство, уйду от обид,
Потому что мои аваджийские кони{242}
И верблюды мои не боятся погони.
{243}
Кто купит кольчугу? По кромке кольчуга моя
Тверда и подобна застывшему срезу ручья.
Кошель за седлом, где в походе хранится она,—
Как чаша, которая влаги прохладной полна.
Расщедрится кесарь и князю пошлет ее в дар.
Владельцу ее смертоносный не страшен удар.
Он сердцем влечется к струящимся кольцам ее
И пить не желает: ее красота — как питье.
Меня заставляет расстаться с кольчугой моей
Желанье одаривать хлебом голодных людей.
Она и в знойный день была как сад тенистый,
Который Сириус поит водою чистой.
Я приоткрыл суму с кольчугою моей,
Что всадника в седле на перст один длинней.
Увидела она кольчугу и сначала
Сережки из ушей и золото бросала,
Потом запястья мне и кольца принесла.
Кольчуга все-таки дороже мне была.
Отец твой мне сулил своих верблюдов стадо
И лучшего коня, но я сказал: не надо.
Мужчине продал бы — и то кольчуге срам.
Неужто женщине теперь ее продам?
Хотела опоить вином темно-багряным,
Чтоб легче было ей кольчугу взять обманом.
Я не пригубил бы и чаши тех времен,
Когда своей лозой гордился Вавилон.
Ресницы подыми, весна уже в начале,
И голуби весны окрест заворковали.
Мне самому еще кольчуга по плечу,
Когда я пастухам на выручку лечу.
Сулейму бедную одна томит остуда,
Что ни жиринки нет в горбу ее верблюда.
Забудь о нем и взор на мне останови:
Я вяну, как побег. Я гибну от любви.
Она пугливее и осторожней лани,
Убежище ее — в тенистой аладжане{244}.
Когда от Йемена к нам облака идут,
Найдет обильный корм на пастбище верблюд.
{245}