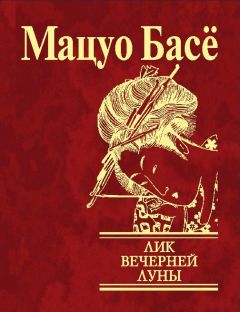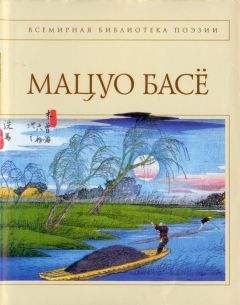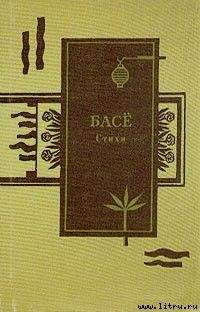Мацуо Басё - По тропинкам севера
Или такая хокку. Басё посетил развалины замка знаменитых феодальных героев XII века. Когда-то здесь жили могущественные, честолюбивые правители и разыгрывались ожесточенные битвы за власть, а теперь от былой славы остались только развалины, заросшие травой., и Басё восклицает: «О летняя трава, след грез древних воинов!» В дословном переводе не хватает четырех слогов. Перевод, уточняющий смысл хайку: «Летняя трава! Павших древних воинов грез о славе след…»
По мере возможности сохранена внешняя структура хайку: обычная синтаксическая обособленность первой или третьей строки, редкость enjambement (переноса); последний дан только в тех случаях, когда он наличествует в оригинале. Но, к сожалению, в отношении синтаксического построения не всюду удалось сохранить одну из существенных особенностей хайку — бессказуемостную конструкцию. Хайку часто состоит только из восклицательных предложений, заключается только в назывании. Чтобы передать картину бурно вздымающихся волн и безмолвного, сияющего звездами неба, контраст между мятежностью земного и торжественной тишиной небесного, Басё говорит только: «О бурное море! Млечный Путь, повисший над островами Сало». Или такая картина: побережье, рокот прибоя, неподалеку заросли цветущих хаги; но уже приближается осень, хаги отцветают; ветер обрывает лепестки и уносит их к морю; они нежно розовеют на белом песке прибрежья, — их почти можно принять за раковины «масуо», сверкающие розовым перламутром. И поэт говорит: «О побережье, на которое набегают волны! Лепестки хаги, смешавшиеся с раковинами». Таких примеров можно было бы привести множество. Характер японского языка, в котором глагол, будучи поставлен перед существительным, с легкостью превращает в определение стоящую впереди этого «но» целую фразу, обусловливает широкую возможность бессказуемостной конструкции. Между тем следование оригиналу в этом отношении привело бы в одних случаях к громоздкости фразы, поскольку неизбежно было бы ввести тяжеловесное для короткой строки слово «который», в других же вовсе не достигло бы цели, так как в русском языке сказуемостность ощущается и без глагола Так, если в упомянутом выше хокку «хотогису» было бы переведено «кукушка в лесу», это все равно ощущалось бы, как «в лесу (есть) кукушка», а не «О, кукушка в лесу!» Или такая хокку: Басё увидел в храме старинную реликвию — шлем знаменитого древнего воина Санэмори. Когда-то Санэмори совершал в этом шлеме доблестные подвиги, а теперь этот шлем стал музейной реликвией, лежит, как безжизненный предмет, и под ним уютно устроились сверчки. И Басё говорит: «Мудзан я на. Кабуто-но мото-но Киригирису», что значит буквально: «Горестно! Сверчки под шлемом!» Но не «сверчки есть под шлемом», как это воспринимается по-русски, а «сверчки, находящиеся под шлемом». Ввиду трудности передачи этой бессказуемостности, переводчик пошел по пути частичной замены соответствующих фраз предложением, состоящим из подлежащего и сказуемого — точного обозначения действия, поскольку такой тип предложения достаточно свойственен хайку. В приведенном выше примере: «Кукушка поет». В данном случае:
«Горестный удел!
Шлем, забрало, — а под ним
Верещат сверчки»
— и т. п.
На этот путь толкнуло переводчика еще и то соображение, что по-русски сложное определение обычно ставится после определяемого, и нормальная расстановка слов вызывала бы перестановку строк хайку. В приведенном выше примере сказано: «Смешавшиеся с раковинами» (вторая строка), а не так, как получается по-русски: «лепестки хаги, смешавшиеся с раковинами». Между тем порядок строк не безразличен, потому что последняя строка хокку отличается особым характером, обычно представляя собой словосочетание из существительного с определением. В данном случае «лепестки хаги». Поэтому в переводе приходится сказать: «Берег, волн прибой. Среди раковин видны Хаги лепестки». Аналогичные словосочетания: «Аки но кадзэ» — «осенний ветер», «Юу суд-зуми» — «вечерняя прохлада», или даже одно слово: «хотогису» — «кукушка», «киригирису» — «сверчок», «янаги кана» — «о, ива!» и т. п. Зачастую эти строки являются как бы штампованными, и употребление такой готовой строки служит достоинством хайку. На поминальной службе по одному поэту Басё говорит: «Могила, двинься! Рыдающий мой голос — Осенний ветер». Печальное завывание осеннего ветра — как рыдания, это один смысл; а другой: я рыдаю, а кругом сумрачно надвигается осень, свистит ветер. Несколькими строками ниже, бредя по дороге под последними палящими лучами солнца, поэт с отрадой ощущает облегчающее веяние прохладного ветра: «Хоть беспощадно Палит, как раньше, солнце, — Осенний ветер…» Но в горах Исияма, под мрачной зеленью вековых сосен, среди причудливых валунов, раскинутых по суровому склону, у бедного храмика свист осеннего ветра уже наводит на него печаль: «Еще унылей, Чем камни Исияма, Осенний ветер».
Ввиду всего этого нарушать законченность последней строки казалось нежелательным, но, как уже упомянуто, пришлось иногда заменять словосочетание особого характера законченной фразой типа подлежащего со сказуемым, — например, «кукушка поет» — и т. п.
В заключение, возвращаясь к вопросу об эстетическом воздействии перевода, переводчик позволяет себе высказать следующее соображение. Не всякое произведение литературы способно эстетически воздействовать на читателя совсем иной эпохи и страны, даже в оригинале, при знании языка, в силу слишком большой исторической, национальной и классовой ограниченности. Именно так обстоит дело со стилем хайкай. И переводчик сочтет свою задачу разрешенной, если перевод даст ясное представление о специфических элементах этого стиля.
МАЦУО БАСЁ
ПО ТРОПИНКАМ СЕВЕРА
1. Месяцы и дни — путники вечности, и сменяющиеся годы — тоже странники. Те, что всю жизнь плавают на кораблях, и те, что встречают старость, ведя под уздцы лошадей, странствуют изо дня в день, и странствие им — жилище. И в старину часто в странствиях умирали[1]. Так и я, с каких уж пор, увлеченный облачком на ветру, не оставляю мысли о скитаньях.
Бродил я по прибрежным местам и минувшей осенью смел старую паутину в ветхой лачуге своей у реки. Вот и этот год кончился, и весной, наступившей в дымке тумана: «перейти бы заставу Сиракава!» — бог-искуситель, вселившись во все, стал смущать мне душу, боги-хранители путников так и манили, и за что я ни брался, ничто не держалось в руках.
Залатал я дыры в штанах, обновил завязки на шляпе, прижег моксой колени[2], и с той поры сразу встал неотвязно в душе образ луны в Мацусима. Уступил я жилище другим, и, перебираясь за город к Сампу,—
Домик для кукол…
Переменяет жильцов!
Что ж — и лачуга.
Такой начальный стих я прикрепил к одному из столбов дома[3].
В третий месяц, в седьмой день последней декады, когда небо чуть брезжило зарей и луна клонилась к закату, гася свой свет, еле виднелась вершина Фудзи, и от дум: ветви вишен в Уэно[4] и Янака[5], когда же снова? — сжалось сердце. Все близкие собрались накануне с вечера и провожали меня на лодках. Когда я сошел с лодки в месте по имени Сэндзю, мне стеснили душу мысли о трех тысячах ри[6] пути, предстоящих мне впереди, и на призрачном перепутье бренного мира я пролил слезы разлуки.
Весна уходит!
И плачут птицы, у рыб
На глазах слезы…
Так я обновил дорожную тушечницу, но путь еще не спорился. А позади, стоя на дороге, должно быть, глядели мне вслед до тех пор, пока только был я виден.
2.Так в этом году, во второй год Гэнроку[7], как-то так вздумалось мне пуститься пешком в дальний путь на север, в Оу. Хотя под небом дальних стран множится горесть седин, все говор, быть может, из краев, известных по слуху, но невиданных глазом, я вернусь живым… — так я смутно уповал. И вот в первый день напоследок прибрел к станции по названию Сока.
Все навьюченное на костлявые плечи первым делом стало мне в тягость. Я было вышел налегке, но бумажное платье — защита от холода ночи, легкая летняя одежда, дождевой плащ, тушь и кисти, да еще — от чего никак не отказаться — подарки на прощанье — не бросить же было их? — все это мне стало помехой в пути чрезвычайно.
Сходил поклониться в Муро-но Ясима[8]. Мой спутник Сора рассказал: «Здешнее божество именуется Ко-но Ханасакую-химэ. Это та же самая богиня, что и в храме на горе Фудзи. Она вошла в наглухо обмазанное жилище, зажгла огонь, закляла, и так родился бог Хоходэми-но-микото. С той поры это место называют Муро-но Ясима — Котлы Муро. Оттого же иногда зовут Кэмури — Дым. Здесь запретны рыбы коносиро. Такое предание ходит по свету».