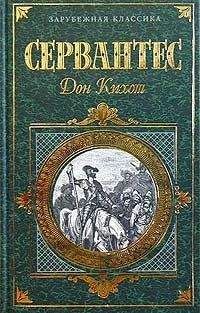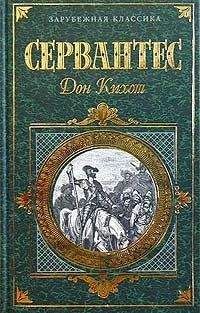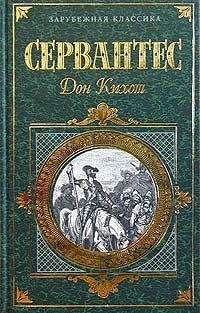Ихара Сайкаку - Пять женщин, предавшихся любви
— Жаль того деревенского, — сказала она. — Напоите его хотя бы кипятком!
Стряпуха Умэ налила кипятку в чашку для прислуги, а слуга Кюсити отнес ее юноше.
— Спасибо за ваши заботы! — поблагодарил тот. В сенях было темно. Усевшись рядом, Кюсити
потрепал юношу за пучок волос надо лбом.
— Ты в таком возрасте, — сказал он, — что, живи ты в Эдо, у тебя уже был бы кое-кто на сердце. Эх ты, бедняга!
— Да ведь я вырос в деревне, в простоте, — отвечал юноша, — поле обрабатывать, да лошади смотреть в зубы, да хворост собирать — вот и все, что я умею.
И вид у него при этом был печальный.
____________________
____________________
Но вот пришло время отходить ко сну. Слуги поднялись по приставной лесенке в мезонин, и лампа едва мерцала там. Хозяин проверил замки на кладовых, а хозяйка строго-настрого наказала следить за огнем. Дошла очередь и до О-Сити: накрепко закрыли внутреннюю дверь — преградили дорогу любви.
Что за жестокость!
Колокол пробил два часа. Вдруг застучали в наружную дверь и послышались голоса мужчины и женщины:
— Проснитесь! Госпожа тетушка только что разрешилась от бремени, Да еще мальчиком! Данна-сама [116] в большой радости!
Звали настойчиво, так что все в доме поднялись и засуетились.
Вот радость-то! Хозяин и хозяйка сейчас же вышли из опочивальни и, захватив цитварное семя, чтобы дать младенцу от глистов, сунув кое-как ноги в первые попавшиеся сандалии, второпях отбыли из дома, приказав О-Сити запереть за ними двери.
Возвращаясь в комнаты, О-Сити вспомнила о юноше из деревни, что заночевал у них.
— Посвети мне! — сказала она служанке и подошла взглянуть на него.
Паренек крепко спал, и ей стало жаль его.
— Не тревожьте его, он так сладко спит! — сказала служанка, но О-Сити, сделав вид, что не слышит ее слов, нагнулась над спящим.
Запах, который исходил от его тела, почему-то заставил сильнее биться ее сердце. Она сдвинула зонтик, взглянула на лицо спящего: чистый профиль спокоен, волосы лежат в порядке.
Некоторое время О-Сити не могла отвести глаз.
«И тому столько же лет!» — подумала она и засунула руку в рукав юноши. Под верхней одеждой оказалось нижнее кимоно из мягкой бледно-желтой материи.
«Как странно!» Она пригляделась внимательнее, и что же? Перед ней был Китидзабуро-доно!
— Почему ты в таком виде?!…
Не думая о том, что ее услышат, она бросилась к нему на грудь и залилась слезами.
Китидзабуро, увидев О-Сити, некоторое время не мог вымолвить ни слова. Затем он сказал:
— Я пришел в таком виде, потому что хотел хоть одним глазком взглянуть на тебя. Ты только представь себе, в какой печали я пребывал с вечера!…
И он стал подробно рассказывать О-Сити все, что с ним произошло.
— Во всяком случае, пойдем в комнаты. Там я выслушаю твои жалобы, — сказала О-Сити и протянула ему руку, но Китидзабуро еще с вечера так окоченел, что едва мог двигаться.
Бедняга! Кое-как О-Сити и служанка усадили его на свои сплетенные руки и перенесли в комнату, где обычно спала О-Сити. Там они принялись растирать его, сколько хватало сил, поить разными лекарствами и были счастливы, когда наконец на его лице появилась улыбка.
«Мы совершим помолвку и уж сегодня досыта наговоримся обо всем, что на сердце!» — радовались они, как вдруг в эту самую минуту изволил возвратиться отец. Вот новая беда!…
Спрятав Китидзабуро за вешалкой с платьями, О-Сити приняла невинный вид.
— Ну как О-Хацу-сама и новорожденный? — спросила она. — Все благополучно?
— Ведь это наша единственная племянница — как же было не беспокоиться? Но сейчас словно гора с плеч упала! — обрадованно ответил отец.
Он был в прекрасном настроении и стал советоваться с О-Сити, какой рисунок сделать на приданом для новорожденного.
— Как ты думаешь, хорошо будет, если навести золотом журавля, черепаху, сосну и бамбук? [117] — спрашивал он.
О— Сити вместе со служанкой стала уговаривать его:
— Об этом не поздно будет подумать и завтра, когда вы успокоитесь!
Но отец не слушал их:
— Нет, нет! Такие вещи чем скорее сделаешь, тем лучше!
И, прикрепив к деревянному изголовью листы ханагами, он принялся вырезать образцы.
Какое это было мучение!
Когда наконец все было кончено, они кое-как уговорили его идти спать… Хотелось О-Сити и Китидзабуро вдоволь наговориться друг с другом, но ведь их отделяла от родителей только одна бумажная ширма! Страшно было, что голоса проникнут за стенку. Тогда они положили перед собой тушечницу и бумагу и при свете лампы стали писать обо всем, что было у них на сердце.
Один показывал… другой смотрел… Как подумаешь, в самом деле эту ширму можно было назвать гнездышком осидори! [118]
Так до утра они в письмах беседовали друг с другом, а с рассветом пришел час разлуки. Сердца их переполняла такая любовь, подобной которой нет. Но как жесток наш мир!
Ветка вишни, которой никто больше не увидит в этом мире
О— Сити не говорила о своей любви, но и на рассвете, и в сумерках отчаяние наполняло ее сердце.
Не было никакой надежды на встречу. Однажды ненастным вечером припомнилась ей суматоха, которая поднялась в тот день, когда все спешили укрыться от огня в храме. И в голову О-Сити пришла неразумная мысль: «Вот если бы снова случился пожар! Это могло бы привести к встрече с Китидзабуро…» Она решилась на дурной поступок.
Поистине это была сама судьба!
Когда повалил дым, все засуетились. Но людям этот пожар показался странным. Присмотрелись внимательнее и поняли, что виной всему — О-Сити.
Стали дознаваться, и она рассказала, ничего не утаивая.
Что ж, оставалось только пожалеть о ней!
Сегодня выводили ее на публичный позор к разрушенному мосту в Канде, завтра — в Ёцуя, в Сибу — на Асакусу в Нихонбаси. Люди наперебой спешили посмотреть, и не было никого, кто не пожалел бы ее.
Поистине, небо не прощает дурных поступков.
Любовь к Китидзабуро поддерживала О-Сити, и внешне она нисколько не подурнела. Каждый день, как и прежде, причесывала свои черные волосы, и как же она была красива!
Что за жалость! Облетели цветы семнадцатой весны! В начале месяца удзуки [119], когда даже кукушки соединяют свои голоса, ей сказали, что пришел ее последний час.
Но и тогда она не упала духом.
«Наш мир — это сон!» И от всего сердца она пожелала перейти в иной мир.
Ее жалели и дали ей в руки ветку поздно расцветшей вишни, как раньше поднесли бы ей цветы. О-Сити долго смотрела на ветку, затем сложила такое стихотворение:
Печальный мир, где человек гостит!
Мы оставляем имя в мире этом
Лишь ветру, что весною прилетит…
И эта ветка нынче облетит…
О ветка, опоздавшая с расцветом!…
Слышавшие это с еще большей печалью провожали ее взглядом. И хотя не окончился еще срок жизни, отпущенный ей небом, но с ударом колокола, возвещающего наступление вечера, на травяном поле близ проезжей дороги [120] О-Сити стала дымком, уплывающим в высоту.
Ни один человек, кем бы он ни был, не избежит смерти, и все же конец О-Сити вызывал особенную печаль.
Вчера произошло это. А посмотришь, сегодня ни праха, ни пепла не осталось. Лишь ветер дует в соснах, в Судзугамори, да прохожий человек, услышав эту историю, остановится, чтобы помолиться за упокой души О-Сити.
Китайский шелк в полоску — от платья, что было надето на О-Сити в тот день, — люди разобрали до последнего лоскутка: «чтобы внукам рассказывать обо всем этом!»
Даже люди, не бывшие близкими О-Сити, в поминальные дни ставили перед ее могилой ветки анисового дерева и произносили подобающие молитвы. Но почему же тот юноша, с которым она связала себя клятвой, не был здесь в ее последний час?
Люди удивлялись и на все лады судачили об этом.
А Китидзабуро в это время, ничего не зная и томясь душой по О-Сити, совсем перестал сознавать окружающее, так что думалось даже: здесь настанет конец его пребыванию в нашем грустном мире. Никакой надежды увидеть возлюбленную у него не было, и он проводил дни словно во сне.
Вот, поразмыслив, люди и решили: если рассказать ему обо всем, пожалуй, он не вынесет этого. Из его речей можно было заключить, что он уже позаботился даже о месте для своей могилы и ждет своего последнего часа.
Странная вещь — человеческая жизнь! Стали его подготавливать, всячески приукрашивая обстоятельства, чуть ли не обещали, что она вот-вот сама пожалует к нему и тогда они смогут вволю насмотреться друг на друга… На душе у Китидзабуро стало легче; не обращаясь к лекарствам, которые давали ему, он все твердил одно: «О любимая моя! Она все еще не пришла?»
Так он пребывал в неведении. А между тем наступил тридцать пятый день после казни О-Сити, и люди тайком от Китидзабуро справили по ней поминальный обряд.
Наступил и сорок девятый день — день мотимори [121]. Родные О-Сити отправились в храм Ки-тидзёдзи. «Покажите нам по крайней мере ее возлюбленного!» — попросили они.