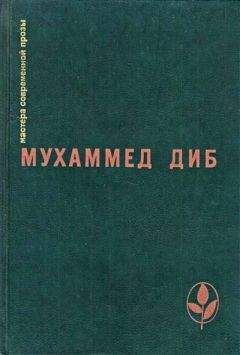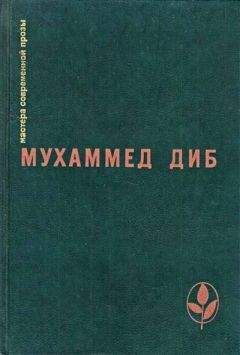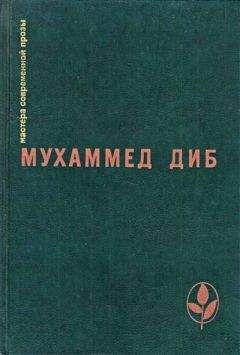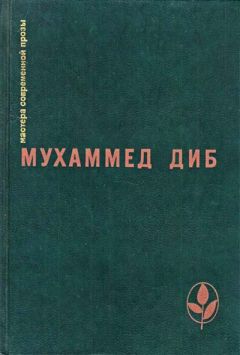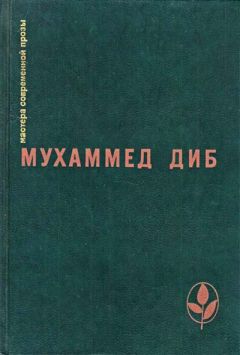Арбитр Петроний - Сатирикон
49. Еще не все это явил нам наш хозяин, как уже воздвигнуто было блюдо с огромной жареной свиньей во весь стол. Быстрота привела нас в восторг: мы клянемся, что и курицу обыкновенную так скоро не сварить, тем более свинья эта была гораздо крупнее представленной прежде. Между тем хозяин стал все пристальнее приглядываться и вдруг разразился: «Что-о? Да никак вепрь этот еще не выпотрошен? Нет же, ей-ей! Вести повара, вести сюда!» Приблизившись к столу, удрученный повар признался, что выпотрошить забыл. «Что-о? забыл? — кричал хозяин, — по-твоему, это как перцу или тмину не посыпать? Раздевай!» И тут же двое истязателей сняли с загрустившего повара платье и встали по обе стороны от него. Тогда уже хором вступились гости, говоря: «Прости, пожалуйста, вперед провинится, никто не простит». Только я, по природной свирепости, не удержался, нагнулся к Агамемнону и шепчу ему на ухо: «Однако и негодяй же этот раб: забыть свинью выпотрошить! Да если б он у меня рыбешку пропустил, клянусь Гераклом, я б не простил ему». Но не таков был Трималхион, посветлев лицом, уже он говорил виноватому: «Ну, коли у тебя память такая дырявая, потроши свинью здесь, пред нами!» Повар накинул платье, взялся, все еще трепеща от страха, за нож и потыкал им в свиное чрево. И что ж? Прорехи расползлись под тяжестью содержимого, а оттуда полезли колбаски и сосиски.
50. Узрев этот фокус, прислуга захлопала в ладоши с восклицанием: «Нашему Гаю слава!» Да и повару перепало кое-что — питье, серебряный венок и бокал на подносе коринфской бронзы. Агамемнон взял подарок, чтобы разглядеть его ближе, а хозяин и скажи: «У меня у одного только настоящая коринфская». Я уже ждал, что он с обычной своей отвагой заявит теперь, будто ему доставляют посуду из самого Коринфа. Но сказанное им едва ли было не лучше. «Вы, может, спросите, — сказал он, — отчего это у меня у одного коринфская настоящая? Очень просто: мастер, у кого покупаю, Коринф зовется; так зачем мне коринфская, когда у меня Коринф? А чтоб ты не считал, что я без понятия, так я очень даже знаю, откуда все это коринфское пошло. Только, значить, Трою полонили, а Ганнибал — мужик хитрющий и большой мошенник — взял все статуи медные, золотые, серебряные, в костер свалил и поджег. А мастера тот сплав растащили и понаделали горшков всяких, тарелок, фигурок разных. Вот вам и коринфская бронза, каша-меша, ни то ни се. И уж вы простите меня, а по мне, так стеклянная посуда лучшее, по крайности не воняет. Не бейся она, я бы на золотую и глядеть не стал; ну а так, конечно, грош ей цена.
51. Жил-был, однако же, мастер. Соорудил он такую чашу стеклянную, что и разбить нельзя. Понес ее Цезарю в подарок. Ну, допустили его. Протягивает опять же Цезарю — и об пол ее. Цезарь с переляку прям обмер. А тот чашу с полу поднял — она только помялась чуток, будто медная. Достает он молоток из-за пазухи да чашу-то играючи и выправил — любо-дорого. Ну, после такого он уж думал, что Зевса за яйца держит, а Цезарь и спроси: „Знает ли еще кто твой рецепт стекольный?“ Видишь ты?! А как тот сказал, что никто, повелел Цезарь его обезглавить: дескать, кабы этакую штуку узнали, так стало бы золота как грязи.
52. Не, я серебро больше уважаю. Кубки есть такие — мало с ведро… про то, как Кассандра сынишек режет, и лежат детишки мертвенькие, словно взаправду. Еще чаша есть у меня, что оставлена от благодетелей моих, так там Дедал Ниобу в троянского коня запихивает. Тоже и бой Гермерота с Петраитом у меня на кубках: увесистые такие! Нет, я сознания, что это мое, ни за какие деньги не продам».
Хозяин еще не кончил, когда слуга уронил на пол чашку. Оглянувшись на него, Трималхион произнес: «А ну-ка, быстро выпори сам себя, раз ты дрянь такая!» Мальчишка сразу заскулил, начал просить. «Чего ж ты меня просишь, — молвил хозяин, — я, что ль, твоей беде причина? Мой совет: себя же упрашивай дрянью не быть». В конце концов мы упросили его — простил слугу, а тот, отпущенный, стал скакать вокруг стола и кричать: «Воду в ведро, вино в нутро!» Мы оценили изящество шутки, и всех более Агамемнон, который отлично знал, за какие заслуги его и в другой раз пригласят. Между тем, выслушав нашу похвалу, хозяин стал пить хмельнее и, близкий уже к опьянению, говорит: «А что ж это никто Фортунату мою сплясать не просит? Я вам откровенно скажу — кордака лучше ее никто не спляшет». Воздевши руки кверху, сам он начал передразнивать Сира-гаера, а слуги подтягивали: «Мадейя перимадейя!» Уже он недалек был от того, чтоб пуститься в пляс, но тут Фортуната что-то ему шепнула на ухо — сказала, полагаю, что несовместимы с его достоинствами повадки столь подлые. О, какое же это было испытание, когда он не умел решить, Фортунате ли ему следовать или собственной своей натуре!
53. Решительно остановил его плясовой задор только делопроизводитель, огласивший нечто вроде городских известий: «В день седьмой до секстильских календ в Кумской усадьбе Трималхиона родилось мужеского пола 30, женского — 40; пшеницы ссыпано в закрома с гумна 500 тысяч мер; быков выложено 500. Того же числа: раб Митридат распят на кресте за то, что поносными словами обозвал радость нашу, Гая господина. Того же числа: отложено в сундуки 10 миллионов, ибо другого помещения им не найдено. Того же числа: случился пожар в Помпеянских садах, а началось с дома вилика Насты». — «Что-о? — воскликнул Трималхион, — когда это я успел Помпеянские сады купить?» — «Прошлый год, — ответствовал делопроизводитель, — потому не оприходованы еще». Как вспыхнет Трималхион: «Да если я и вперед землю покупать буду и мне о том в течение шести месяцев не доложат, так я в книги записывать запрещеваю!» Тогда же оглашены были постановления эдилов и завещания лесничих, в конце которых объяснялось, почему Трималхиону не оставляют наследства; а еще списки виликов, дело о разводе полевого смотрителя с отпущенницей — той самой, которую с банщиком застали; ссылка дворецкого в Байи; казначей, преданный суду; а еще судебное решение о комнатных слугах.
Наконец, явились акробаты. Здоровенный детина расставил свою лестницу и велел мальчишке карабкаться по ступенькам и наверху скакать под музыку, проходить сквозь горящий обруч и держать в зубах амфору. Любовался на это один Трималхион, приговаривая, до чего неблагодарное это ремесло. Впрочем, только две вещи на свете ему больше других и нравятся: акробаты да трубачи, а прочие гармонии чушь. «Купил я как-то, — сообщил он, — комедиантов да и заставил их нашу ателлану давать, а греку-свирельщику велел, чтоб пел по-латыни».
54. Не успел Гай окончить, как мальчишка рухнул на… Трималхиона. Слуги завопили, и гости тоже — не из-за этого плюгавца, конечно, он бы себе и шею сломил, так им бы потеха; а вот плохой выходил конец ужина, когда пришлось бы оплакивать чужого покойника! Сам хозяин взвыл страшным голосом и лежал так, точно рука его поранена; сбежались врачи, а впереди всех Фортуната, простоволосая, с большим бокалом в руках, крича в голос, какая она бедная и несчастная. Мальчишка, что с лестницы слетел, между тем пресмыкался у нас в ногах и просил отпущения. Я изнемогал, гадая, не готовится ли этим просьбам смехотворная какая-нибудь перипетия: все не выходил у меня из головы тот повар, что позабыл выпотрошить свинью. Потому я стал оглядывать всю столовую, не покажется ли из стены какой-нибудь фокус, особенно когда принялись колотить слугу, который ушибленную хозяйскую руку завернул в белую, а не в пурпурную шерсть. Подозрение мое почти оправдалось, ибо хозяин изрек такой приговор: вместо наказания — отпустить мальчишку на волю, и пусть никто не скажет, что такого мужа из-под раба высвободили.
55. Мы решение Трималхиона одобряем и начинаем на все лады пустословить про то, до чего переменчива бывает судьба человеческая. «Нужна, — сказал хозяин, — надпись об этом истерическом случае». Сейчас требует он таблички для письма и, недолго помучившись, читает следующее:
То, чего не ждешь, иногда наступает вдруг,
Ибо все наши дела вершит своевольно Фортуна.
Вот почему наливай в кубки фалернское, мальчик.
После таких стихов пошли толковать о поэзии. Долго решали, что лучше фракийца Мопса стихотворца нет, а тут и вступил хозяин. «А скажи-ка нам, господин ученый, какая, по-твоему, разница между Цицероном и Публием? По-моему, тот речист, зато этот — человек порядочный. Можно ли лучше, чем эдак вот, сказать».
Разрушит роскошь скоро стены римские…
Павлин пасется в клетке для пиров твоих,
Весь в золотистой вавилонской вышивке,
А с ним каплун и куры нумидийские.
И цапля, гостья милая заморская,
Та Благочестья жрица, та танцовщица,
Предвестница тепла, зимы изгнанница,
В котле кутилы ныне вьет гнездо свое.
Зачем вам нужен жемчуг, бисер Индии?
Иль чтоб жена в жемчужном ожерелии
К чужому ложу шла распутной поступью?
К чему смарагд зеленый, дорогой хрусталь
Иль Кархедона камни огнецветные?
Ужели честность светится в карбункулах?
Зачем жене, одетой в ткань воздушную,
При всех быть голой в одеянье облачном.
56. «А какое ремесло, — прибавил он, — после наук станем считать всех труднее? По-моему, лекарем быть или менялой. Лекарь — тот знает, что у народишка в кишках делается, да еще когда лихоманка приходит; хоть я их и терпеть не могу: уж очень часто они меня утятиной горькой потчуют. Ну а меняла — тот сквозь серебро медь видит. То же и у скота, волы да овцы всех больше работают: по милости волов хлебушко жуем, а овцы — так ведь это их шерсткой мы красуемся. Эх, волки позорные, — и шерстку носим, и баранинки просим! Ну, пчелы, те совсем божьи зверушки: плюют медком, и пускай говорят, что они его от Юпитера брали. С того же и жалят: где сладкое, там и горькое!»