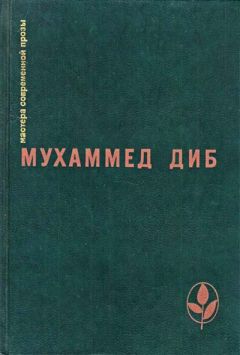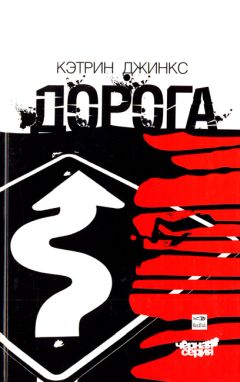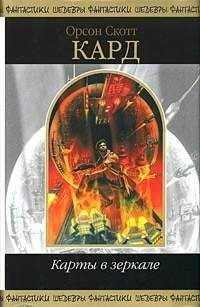Мухаммед Диб - Кто помнит о море
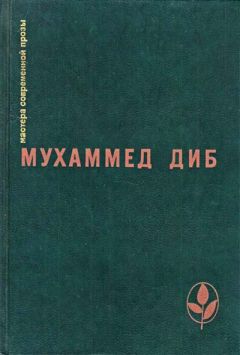
Обзор книги Мухаммед Диб - Кто помнит о море
Мухаммед Диб
КТО ПОМНИТ О МОРЕ
Моей жене
— Мир вам и приятного аппетита.
Мужчина остановился в дверях. Пока мы слышали только голос. Зато каким тоном были сказаны эти слова!.. Я оторвался от своей тарелки и поднял голову; он все еще стоял в дверях, зажав окурок между большим и указательным пальцами и разглядывая нас с едва заметной усмешкой, словно добрый знакомый.
Узнать его? Вот это было бы по справедливости, но у меня не хватило духа. Притвориться слепым, глухим, немым и ждать, чтобы снова появилась надежда, пусть даже ценой крови. Он хотел втянуть нас в свою игру, но что он такое затевал? Его почти не было видно. Дверь не слишком широкая, а в ее проеме — тень, застывшая на полуслове; тень эта глядела, курила и при этом была лишена противоречий, присущих видимым телесным предметам. Где-то вверху, над ней, мелькали чьи-то бледные, туманные силуэты.
Наконец он решился переступить две ступеньки, ведущие вниз. В кофейне стало чуть светлее.
Я снова было уткнулся носом в свою тарелку, но взъерошенный мальчуган, размахивавший неподалеку от двери картонкой над жаровней, застыл вдруг с поднятой вверх рукой.
Мужчина решительно направился к посетителю средних лет, закутанному в накидку землистого цвета. Хлопнув его по плечу, он, не раздумывая, тут же поцеловал его в лоб.
Хозяин, выглянув из-за стойки, снова вернулся к своим жаровням. Я заканчивал трапезу, и лично мне здесь нечего было больше делать.
Вошли еще несколько посетителей, один или два вышли.
Шум теперь доносился со всех сторон, жизнь в городе шла своим чередом. Очнувшись, мальчуган у двери снова принялся раздувать огонь картонкой, его окутывал сноп искр. А этот тип, что он собой представлял? Жир попал на угли и зашипел, зал наполнился чадом.
Один из посетителей встал. Он опустил руку в карман своей куртки, подошел к стойке; отсрочка была дарована городу (который не понимал своего счастья). Крот бродил под землей, под покровом улиц, топал не стесняясь. И тот, кто хотел воистину слушать, мог услышать другое — не только поступь крови, прокладывающей себе путь; иные шаги раздавались под землей, сотрясали ее, словно грохот грома. А мы тем временем мирно болтали.
— Десять дуро, — сказал хозяин.
Крот мог топать сколько угодно: в момент, когда содрогалась земля, мы попросту переступали с ноги на ногу, и только. Земля могла содрогаться, а крот — топать.
Посетитель наклонился над стойкой, сосчитал монеты, помахал на прощанье рукой — неведомо кому или чему, главное, сделал жест.
Едва он успел выйти, как у входа появился серый силуэт огнедышащего минотавра, который прошествовал со свистом и исчез, на его месте тут же возник второй минотавр и тоже исчез с таким же точно свистом. Потом третий… Крот. Опрокинутый, он все так же пробирался под асфальтом. Я сосчитал до пяти или шести. Минотавр растворился, вновь проглянуло утро, что-то неуловимое витало в воздухе, жизнь как бы замерла в отдалении. Я прислушался: ничего, на улице по-прежнему было тихо.
Между тем типом и крестьянином завязалась беседа. Из глубин горизонта донеслось дыхание полей, оно пахнуло нам прямо в лицо. Слова, слова… а что толку-то? Судьбу нашу решают пустые, бесцветные слова и жесты, которые не запечатлевает даже глина, они нигде не находят отражения. С нами или без нас. Я слушал, слушать-то всегда можно. Мир иной — это тоже мы, всегда и везде мы. После того как прошли минотавры, мне стало легче держаться посредине реки, жизнь любовно ласкала меня, увлекала, несла куда-то, ибо ее предназначение — давать новую жизнь, производить на свет, пока еще это ей по силам. По улице шел народ, много народа.
— Как дела, брат? Какие новости?
Это спрашивал тот тип, он по-прежнему стоял. Роста он был невысокого, да выше быть ему и не требовалось. Рабочая блуза защитного цвета обтягивала его грудь, на ногах топорщились узенькие брючки. Через плечо перекинута сумка. Медлительность во всех движениях. А куда ему торопиться? Он и так уже со многим распрощался.
— Новости-то? Да никаких, все в порядке.
— Как здоровье?
— Ничего, — сказал крестьянин.
Он обернулся. Самый обыкновенный феллах, такой, как все в наших краях: черная как смоль борода, прокаленное солнцем лицо, вздернутые скулы, мохнатые брови, выражение достоинства на лице — словом, он был похож на хлеб деревенской выпечки. Тамтам, которого никто не слышал, отбивал во чреве города ритм в две и три четверти одновременно; услыхав слова того типа, крестьянин вдруг повеселел и счел нужным добавить:
— Извини, но я тебя вроде не знаю.
— Неужели ты меня не помнишь?
Никому не придет в голову, я полагаю, усомниться в подлинности описания их встречи. Так что же в таком случае прикажете думать об этом феллахе? Ну а тип, он-то каким образом мог узнать человека, которого в глаза раньше не видел? И что самое удивительное — окурок по-прежнему торчал у него в зубах. Каким чудом ему удавалось так долго сосать его? Я выскребал дно тарелки.
Мне вспомнилась моя жизнь в деревне в былые времена, когда я был ребенком: каждый день я встречался с такими вот мужчинами, как он. В них было нечто такое, чему дивилась сама земля; всюду, где бы они ни появлялись, они умели исторгать звук, похожий на крик, смысл которого был недоступен нам, горожанам, живущим в окружении стен. Напоенные запахом сена, дикой мяты, дни тогда сливались воедино и казались одним нескончаемым сладостным днем. И если с той поры время обезумело, если на глаза нам попадаются одни лишь незрячие щиты-указатели, остается все-таки песок, тот самый песок, что стирает ступени, по которым мы спускаемся вниз.
Я делал вид, будто все еще жую, ведь у меня не было денег, чтобы заказать что-то еще. А уходить мне не хотелось, вернее, я уже не мог уйти. Слишком поздно. Денег же у меня ровно столько, чтобы расплатиться за съеденную тарелку.
— На прошлой неделе. В Ремши.
Тип умолк; посасывая свой окурок, он вертел головой во все стороны, с любопытством поглядывая на нас. Неизбежное надвигалось, все предначертано заранее, несколько поколений людей готовились к этому. Посетители входили, отодвигали скамьи, это было в порядке вещей, жизнь шла своим чередом — все как обычно. Они обсуждали с хозяином, что будут есть, а он, как и следовало ожидать, отшучивался:
— Все, чем я располагаю, — к вашим услугам, надеюсь, вам понравится, иначе и быть не может, так что выбора у вас нет.
После этого они обычно усаживались. Тип уставился на меня. Он втягивал меня в свою игру. Но какую? Он один знал ее правила, а все остальные должны были подыгрывать ему, хотя никто из нас не был по-настоящему готов к этому.
И в самом деле похоже на игру — никакой разницы. Причем игра велась одновременно и в кофейне с низким, прокопченным потолком, со стенами в жирных пятнах, и вообще в мире — место действия тут не имело никакого значения. Все равно как город, тот самый другой город, который знал обо всем и все-таки пел; на первый взгляд это могло показаться неожиданным, но никто еще не подозревал о его существовании, никто не слышал пока ни его песен, ни его криков. Я продолжал следить за тем типом — все как в игре, только мы не знали, что это за игра.
Ну а феллах снова принялся за обед и даже пригласил того мужчину к себе за стол.
— Я и в самом деле заезжал как-то в Ремши, только между тем днем, когда я там был, и сегодняшним прошло ровно пятнадцать лет.
Он обстоятельно жевал, отчего азиатская борода его подрагивала. Дрожал чисто выбритый, жирный низ подбородка. Молчание, словно под покровом простыни.
— Не расстраивайся, так часто бывает: одного принимают за другого.
Ириасы, воинственные птицы, из тех, что любят полакомиться оливками, обрушивались крикливыми стаями на отроги Лалла-Сети: октябрь. Они ведали, что творится в стенах города. Но им-то какое до этого дело. Октябрь.
— Так, стало быть, ты приехал из Уахрана?..
— Нет, не из Уахрана.
Мужчина сел на стул боком, опершись о спинку рукой. Время спелого винограда. Октябрь. Октябрь. По-прежнему словно улыбаясь, мужчина оглядывался по сторонам.
— Не бери в голову, — не унимался феллах.
Он преспокойно жевал. День как бы застыл недвижно, исполненный огненного света, позаимствованного у голубого пламени. Феллах взял оставшуюся у него половину лепешки и помахал ею перед мужчиной.
— Да вот послушай. Однажды я был проездом в Марнии. И вижу — подходит ко мне какой-то человек, здоровается со мной и приглашает в кофейню. Я не отказываюсь, не говорю, что он принял меня не за того. В конце концов он сам признает свою ошибку. Угощает меня кофе и просит на прощанье извинения.
Феллах расхохотался. Но тип едва ответил ему, криво усмехнувшись. Он уже не слушал его, пускай он находился тут, рядом, — какое это имело значение? — но душой он уже был там, куда призывал его долг. Теперь это дело каких-то минут, отдельных деталей, последних уточнений, которых судьба, этот дотошный инженер, требовала от всех — и от него тоже. Это было выше моих сил, я сам искал теперь его взгляда, сам хотел подписать договор, хотя только что отказывался это сделать за отсутствием мужества. Слишком поздно. Он уже был далеко, не с нами.