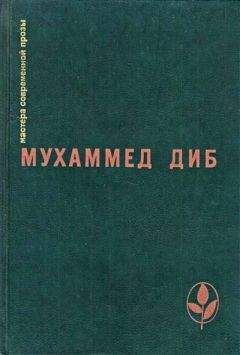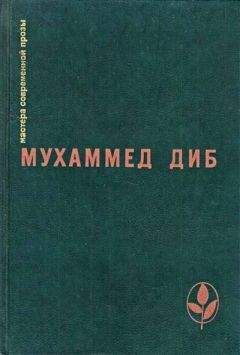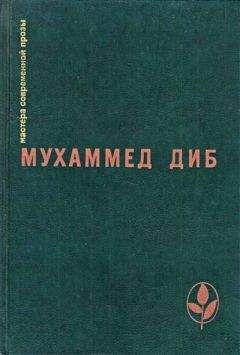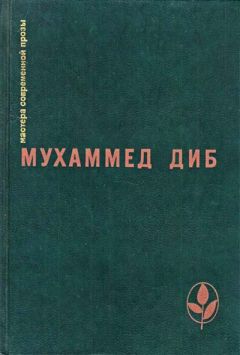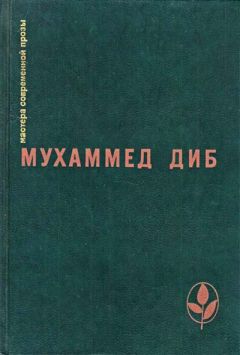Арбитр Петроний - Сатирикон
Приняв такой распорядок, богам молимся, да окончат это счастливо и успешно, и пускаемся в путь. Да вот беда, Гитон худо тянул под непривычным грузом, а нанятый Коракс, хулитель труда, то и дело кляня торопливость, грозил, что либо бросит поклажу, либо убежит с грузом вместе. «Вы думаете, — говорил он, — я лошадь или баржа для каменья? Я человеком нанимался, не мерином. И такой же свободный, как вы, только отец состояния мне не оставил». Не довольствуясь поносными речами, он время от времени вздымал ногу и наполнял дорогу столь же непристойным треском, сколь и запахом. Эта ветреность очень смешила Гитона, который провожал каждый такой встреск соответственным преобразованием голоса.
(Понимая, что спутникам от этого не уклониться, Евмолп готовит почву для чтения своей новой поэмы.)
118. «Многих, — сказал Евмолп, — ввело в соблазн, о юноши, стихотворство. Ибо всякий, кто расположил строчку по стопам и скроил смысл из слов не самых грубых, сейчас же мнил себя на Геликоне. Измученные службой на форуме, они устремляются к поэтической тишине словно к заветной гавани, полагая, что легче вывести стихотворение, чем контроверсу, расцвеченную пустозвонными изреченьями. Между тем дух возвышенный не терпит здравомыслия, а душа не способна ни зачать, ни разродиться, пока не залита мощным потоком книжности. Бежать надо всякой, скажем так, словесной подлости и вести речь далеко от толпы, чтобы исполнилось „Прочь отойди, народ непосвященный“. А еще надо заботиться, чтобы не выпирали фразы, выделяясь из тела речи, но давали бы краску единой ткани. Свидетелями Гомер, и лирики, и римлянин Вергилий, и Гораций, на изумление удачливый. Потому что другие либо не видели пути, к стихотворству ведущего, либо увидели, но боялись на него ступить. Вот огромный предмет — война гражданская: возьмись за эту неистощимую материю любой, кто не напоен книжностью, так рухнет под бременем. Тут же не события исторические надо бы охватить, это гораздо лучше историки делают; необходимо следовать извилистыми путями божественного мироправления и, благодаря сказочной кручености высказываний, так взвить вольный дух, чтобы явилось скорее прозрение исступленной души, чем свидетельскими показаниями подкрепляемая достоверность. Вот, если позволите, хоть этот опыт, не вполне еще отделанный».
119. ПЕСНЬ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
Римлянин, всех победив, владел без раздела вселенной:
Морем, и сушей, и всем, что двое светил освещают.
Но ненасытен он был. Суда, нагруженные войском,
Рыщут по морю, и, если найдется далекая гавань
Или иная земля, хранящая желтое злато,
Значит, враждебен ей Рим. Среди смертоносных сражений
Ищут богатства. Никто удовольствий избитых не любит,
Благ, что затасканы всеми давно в обиходе плебейском.
Так восхваляет солдат корабельный эфирскую бронзу;
Краски из глубей земных в изяществе с пурпуром спорят,
С юга шелка нумидийцы нам шлют, а с востока китайцы.
Опустошает для нас арабский народ свои нивы,
Вот и другие невзгоды, плоды нарушения мира!
Тварей лесных покупают за злато и в землях Аммона,
В Африке дальней спешат ловить острозубых чудовищ,
Ценных для зрелищ убийц. Чужестранец голодный, на судне
Едет к нам тигр и шагает по клетке своей золоченой,
Завтра при кликах толпы он кровью людскою упьется.
Горе! Стыдно мне петь позор обреченного града!
Вот, по обычаю персов, еще недозрелых годами
Мальчиков режут ножом и тело насильно меняют
Для сладострастных забав, чтоб назло годам торопливым
Истинный возраст их скрыть искусственной этой задержкой.
Ищет природа себя, но не в силах найти, и эфебы
Нравятся всем изощренной походкою мягкого тела,
Нравятся кудри до плеч и одежд небывалые виды,—
Все, чем прельщают мужчин. Привезенный из Африки ставят
Стол из лимонного древа, что краской рябин неудачно
С золотом спорит; рабы уберут его пурпуром пышным,
Чтоб восхищал он умы. Вкруг этих заморских деревьев,
Всеми напрасно ценимых, сбираются пьяные толпы.
Жаден бродяга-солдат, развращенный войной, ненасытен:
Выдумки — радость обжор; и клювыш из волны сицилийской
Прямо живьем подается к столу; уловляют в Лукрине
И продают для пиров особого вида улиток,
Чтоб возбуждать аппетит утомленный. На Фасисе, верно,
Больше уж птиц не осталось: одни на немом побережье
Средь опустевшей листвы ветерки свою песнь распевают.
То же безумство на Марсовом поле: подкуплены златом,
Граждане там голоса подают ради мзды и наживы.
О, продажный народ и продажные сонмы сената!
Плебс рукоплещет за деньги; исчезла свободная доблесть
Прежних старейшин, и власть изменила прожившим именье.
Даже величие прежних родов обесчещено златом.
Изгнан народом Катон побежденный; но более жалок
Тот, кто, к стыду своему, лишил его ликторских связок.
Ибо — и в этом позор для народа и смерть благонравья! —
Не человек удален, а померкло владычество Рима,
Честь сокрушилась его, и Рим, безнадежно погибший,
Сделался сам для себя никем не отмщенной добычей.
Рост баснословный процентов и множество медной монеты —
Эти два омута бедный народ, завертев, поглотили.
Кто господин в своем доме? Заложено самое тело!
Так вот сухотка, неслышно до мозга костей проникая,
Яростно члены терзает, и все ухищрения тщетны.
Ищут спасенья в войне и, достаток на роскошь растратив,
Ищут богатства в крови. Для нищего наглость — спасенье.
Рим, погрузившийся в грязь и лежащий в немом отупенье,
Может ли чем-нибудь быть пробужден (если здраво размыслить),
Кроме свирепой войны и страстей, возбужденных оружьем?
120. Трех вождей унесла Фортуна, которых жестоко
Злая, как смерть, Эниб задавила под грузом оружья.
Красс у парфян погребен, на почве Ливийской — Великий,
Юлий же кровью своей обагрил непризнательный город.
Точно не в силах нести все три усыпальницы сразу,
Их разделила земля. Воздаст же им почести слава.
Место есть, где среди скал зияет глубокая пропасть
В Парфенопейской земле по пути к Дикархиде великой;
Воды Коцита шумят в глубине, и дыхание ада
Рвется наружу из недр, пропитано жаром смертельным,
Осенью там не родятся плоды; даже травы не всходят
Там на веселом лугу; никогда огласиться не может
Мягкий кустарник весеннею песней нестройной и звучной —
Мрачный там хаос царит, и торчат ноздреватые скалы,
И кипарисы толпой погребальною их окружают.
В этих пустынных местах Плутон свою голову поднял.
Пламя пылает на ней и лежит слой пепла седого.
С речью такой обратился отец к Фортуне крылатой:
«Ты, что богов и людей подчиняешь всесильною властью
И не миришься никак ни с одною устойчивой властью,
Новое мило тебе и постыло то, что имеешь,
Разве себя признаешь ты сраженной величием Рима?
Иль ты не в силах столкнуть обреченной на гибель громады?
В Риме давно молодежь ненавидит могущество Рима,
Об охраненье добытых богатств не заботясь. Ты видишь
Пышность добычи, ведущую к гибели роскошь богатых,
Строят из злата дома и до звезд воздвигают строенья.
Волны из скал выжимают и море приводят на нивы,
И над порядком природы глумясь, беспрестанно мятутся.
Даже ко мне они в царство стучатся, и почва зияет.
Взрыта орудьями этих безумцев, и стонут пещеры
В опустошенных горах, и прихотям служат каменья.
А сквозь отверстья на свет ускользнуть надеются души.
Вот почему, о Судьба, нахмурь свои мирные брови,
Рим побуждая к войне, мой удел мертвецами наполни.
Да уж давненько я рта своего не омачивал кровью,
И Тисифона моя не омыла несытого тела
С самых с тех пор, как поил клинок свой безжалостный Сулла
И взрастила земля орошенные кровью колосья».
121. Вымолвив эти слова и стремясь протянуть свою руку
Грозной Судьбе, расщепил он землю великим зияньем.
Тут беспечная так ему отвечала Фортуна:
«О мой родитель, кому подчиняются недра Коцита!
Если дозволено мне безнаказанно истину молвить,
С волей твоей я согласна. Затем что не меньшая ярость
В сердце кипит и в крови не меньшее пламя пылает.
Как я раскаялась в том, что о Римских твердынях радела!
Как я дары ненавижу свои! Пусть им стены разрушит
То божество, что построило их. Я всем сердцем желаю
В пепел мужей обратить и кровью душу насытить.
Вижу Филиппы, покрытые трупами двух поражений,
Вижу могилы иберов и пламя костров фессалийских,
Внемлет испуганный слух зловещему лязгу железа.
В Ливии чудится мне, как стонут, о Нил, твои веси
В чаянье битвы Актийской, в боязни мечей Аполлона.
Ну, так раскрой же скорей свое ненасытное царство,
Новые души готовься принять. Перевозчик едва ли
Призраки павших мужей на челне переправить сумеет:
Флот ему нужен. А ты пожирай убитых без счета,
О Тисифона, и жуй, бледноликая, свежие раны:
Целый истерзанный мир спускается к духам Стигийским».
122. Еле успела сказать, как, блесками молний пробита,
Вздрогнула туча, но тут же отсекла прорвавшийся пламень.
В страхе присел повелитель теней и застыл, притаившись
В недрах земли, трепеща от раскатов могучего брата.
Вмиг избиенье мужей и грядущий разгром объявились
В знаменьях вышних богов. Титана лик искаженный
Сделался алым, как кровь, и подернулся мглою туманной,
Так что казалось, уже столкнулись гражданские рати.
В небе с другой стороны свой полный лик погасила
Кинфия, светлый взор отвратив от убийств. Громыхали,
Падая с горных вершин, разбитые скалы;
Реки, покинув русло наудачу, усохнуть готовы.
Звон мечей потрясает эфир, и военные трубы
Марса грозно зовут. И Этна, вскипев, изрыгнула
Пламень досель небывалый, взметая искры до неба.
Вот среди свежих могил и тел, не почтенных сожженьем,
Призраки ликом ужасным и скрежетом злобным пугают.
В свите невиданных звезд комета сеет пожары,
Сходит Юпитер могучий кровавым дождем на равнины,
Знаменье это спешит оправдать божество, и немедля
Цезарь, забыв про покой и движимый жаждой отмщенья,
Галльскую бросил войну: гражданскую он начинает.
В Альпах есть место одно, где скалы становятся ниже
И открывают проход, раздвинуты греческим богом,
Место есть, где алтари Геракла стоят, где седые,
Вечно зимой убеленные, к звездам стремятся вершины,
Будто бы небо свалилось на горы. Ни солнце лучами
Вида не в силах смягчить, ни теплые вешние ветры:
Всё там оковано льдом и посыпано инеем зимним.
Может вершина весь мир удержать на плечах своих грозных.
Цезарь могучий, тот кряж попирая с веселою ратью,
Это место избрал и стал на скале высочайшей.
Взглядом широким окинул кругом Гесперийское поле.
Обе руки простирая к небесным светилам, воскликнул:
«О всемогущий Юпитер и вы, о Сатурновы земли,
Вы, что так рады бывали победам моим и триумфам,
Вы мне свидетели в том, что я Марса зову не охотой
И не охотой подъемлю я меч, но обидой задетый.
В час, когда кровью врагов обагряю я рейнские воды,
В час, когда галлам, опять покусившимся на Капитолий,
Альпами путь преградил, меня изгоняют из Рима.
Кровь германцев-врагов, шестьдесят достославных сражений —
Вот преступленье мое! Но кого же страшит моя слава?
Кто это бредит войной? Бесстыдно подкупленный златом
Сброд недостойных наймитов и пасынков нашего Рима.
Кара их ждет! И руки, что я занес уж для мщенья,
Вялый не может связать. Так в путь же, победные рати!
В путь, мои спутники верные! Тяжбу решите железом.
Всех нас одно преступленье зовет, и одно наказанье
Нам угрожает. Но нет! должны получить вы награду!
Я не один побеждал. Но если за наши триумфы
Казнью хотят нам воздать и за наши победы — позором,
Пусть же наш жребий решает Судьба. Пусть усобица вспыхнет
Силы пора испытать. Уже решена наша участь:
В сонме таких храбрецов могу ли я быть побежденным?»
Только успел провещать, как Дельфийская птица явила
Знаменье близких побед, взбудоражив воздух крылами.
Тут же послышался слева из чащи ужасного леса
Странных гул голосов, и тотчас блеснула зарница.
Тут же и Фебова щедрость свой светлый лик показала,
В небе явившись и лик окружив позлащенным сияньем.
123. Знаменьем сим ободрен, Мавортовы двинул знамена
Цезарь и смело вступил на путь небывалых дерзаний.
Первое время и лед не мешал, и покрытая серым
Инеем почва лежала, объятая страхом беззлобным,
Но, когда через льды переправились храбрые турмы
И под ногами коней затрещали оковы потоков,
Тут растопились снега, и зачатые в скалах высоких
Ринулись в долы ручьи. Но, как бы по слову чьему-то,
Вдруг задержались и стали в своем разрушительном беге.
Воды, недавно бурлившие, можно разрезать ножами.
Тут-то впервые обманчивый лед изменяет идущим,
Почва скользит из-под ног. Вперемежку и кони, и люди,
Копья, мечи и щиты — все валится в жалкую кучу.
Мало того — облака, потрясенные ветром холодным,
Груз свой излили на землю, и ветры порывные дули,
А из разверстых небес посыпался град изобильный.
Тучи, казалось, обрушились сами на воинов бедных
И, точно море из твердого льда, над ними катились.
Скрыта под снегом земля, и скрыты за снегом светила,
Скрыты рек берега и меж них застывшие воды.
Но не повержен был Цезарь: на дрот боевой опираясь,
Шагом уверенным он рассекал эти страшные нивы.
Так же безудержно мчался с отвесной твердыни Кавказа
Пасынок Амфитриона; Юпитер с разгневанным ликом
Так же когда-то сходил с высоких вершин Олимпийских,
Чтоб осилить напор осужденных на гибель гигантов.
Цезарь гордость твердынь еще смиряет во гневе,
А уже мчится Молва и крылами испуганно машет.
Вот уж взлетела она на возвышенный верх Палатина
И словно громом сердца поразила римлянам вестью:
В море-де вышли суда и всюду по склонам альпийским
Сходят лавиной войска, обагренные кровью германцев.
Раны, убийства, оружье, пожары и всяческий ужас
Сразу предносятся взору, и в этой сумятице страшной
Ум, пополам разрываясь, не знает, за что ухватиться:
Этот бежит по земле, а тот доверяется морю.
Волны — вернее отчизны. Но есть среди граждан такие,
Что, покоряясь Судьбе, спасения ищут в оружье.
Кто боится сильней, тот дальше бежит. Но всех раньше
Сам народ — плачевное зрелище! — смутой гонимый,
Из опустевшего града уходит куда ни попало.
Рим упивается бегством. Одной Молвою Квириты
Побеждены и бегут, покидая печальные кровли.
Этот дрожащей рукой детей за собою уводит,
Тот на груди своей прячет пенатов, в слезах покидая
Милый порог, и проклятьем врагов поражает заочно.
Третьи к скорбной груди возлюбленных жен прижимают
И престарелых отцов. Заботам чуждая юность
Только то и берет с собой, за что больше боится.
Глупый увозит весь дом, и прямо врагу на добычу.
Так же бывает, когда разбушуется ветер восточный,
В море взметая валы, — ни снасти тогда мореходам
Не помогают, ни руль. Один паруса подбирает,
Судно стремится другой направить в спокойную гавань,
Третий на всех парусах убегает, доверясь Фортуне…
Но не о малостях речь! Вот консулы, с ними Великий,
Ужас морей, проложивший пути к побережьям Гидаспа.
Риф, о который разбились пираты, кому в троекратной
Славе дивился Юпитер, кому с рассеченной пучиной
Понт поклонился и с ним раболепные волны Босфора —
Стыд и позор! Он бежит, оставив величие власти.
Видит впервые Судьба легкокрылая спину Помпея.
124. Этот разгром, наконец, даже самых богов поражает.
Страх небожителей к бегству толкает. И вот отовсюду
Сонмы божеств всеблагих, гнушаясь землей озверевшей,
Прочь убегают, лицо отвернув от людей обреченных.
Мир, пред другими летя, белоснежными машет руками,
Шлемом сокрыв побежденную голову и покидая
Землю, пугливо бежит в беспощадные области Дия.
С ним же, потупившись, Верность уходит, затем Справедливость,
Косы свои растрепав, и Согласье в истерзанной палле.
В это же время оттуда, где царство Эреба разверзлось,
Вынырнул сонм ратоборцев Плутона: Эриния злая,
Грозная видом Беллона и с факелом страшным Мегера,
Козни, Убийство и Смерть с ужасною бледной личиной.
Гнев между ними несется, узду разорвавший, привольный,
Гордо подняв кровожадную голову, лик, испещренный
Тысячей ран, он прикрыл своим окровавленным шлемом.
Щит боевой повис на левой руке, отягченный
Грудой несметной вонзившихся стрел, а в деснице
Держит он светоч зловещий, пожарища землям готовя.
Тут ощутила земля могущество вышних. Светила
Тщетно хотят обрести равновесие вновь. Разделяет
Также всевышних вражда. Во всем помогает Диона
Цезарю, милому ей, а с нею Паллада-Афина
В верном союзе и Ромул, копьем потрясающий мощным.
Руку Великого держат Фебея и брат, и Килленский
Отпрыск, и сходный в делах с Помпеем Тиринфский воитель.
Вот загремела труба, и Раздор, растрепав свои космы,
Тянет навстречу богам главу, достойную ада:
Кровь на устах запеклась, и плачут, изранены, очи;
Зубы торчат изо рта, покрытые ржавчиной грубой;
Яд течет с языка, извиваются змеи вкруг пасти
И на иссохшей груди, меж складками рваной одежды.
Правой дрожащей рукой он подъемлет факел кровавый.
Бог сей, покинув потемки Коцита и сумрачный Тартар,
Быстро шагая, взошел наверх Апеннин достославных.
Мог обозреть он оттуда все земли и все побережье
И затопившие мир, словно волны, грозные рати.
Тут из свирепой груди такую он речь испускает:
«Смело возьмите оружье, душой распалившись, народы,
Смело возьмите и факел пожара несите по весям:
Кто укрывается, будет разбит. Поражайте и женщин,
И слабосильных детей, и годами согбенную старость.
Пусть содрогнется земля и с треском обрушатся кровли.
Так предлагай же законы, Марцелл! возбуждай же плебеев,
О Курион! Не удерживай, Лентул, могучего Марса!
Что же, Божественный, ты, покрытый доспехами, медлишь,
Не разбиваешь ворот, городских укреплений не рушишь,
Не похищаешь казны? Великий! иль ты не умеешь
Римский оплот оберечь? Так беги же к стенам Эпидамна
И Фессалийский залив обагри человеческой кровью!»
Так свершилося все на земле по приказу Раздора.
Евмолп только кончил изливать этот неудержимый поток слов, когда мы наконец вступили в Кротон. Отдохнув для начала в небольшой гостинице, принимаемся на другой день подыскивать дом на более широкую ногу и оказываемся в толпе наследоискателей, кинувшихся разузнавать, что мы за люди и откуда. В соответствии с тем, что решено было на общем совете, мы повествуем с необузданной сообщительностью, откуда мы и кто мы такие, а те верят нам безусловно. И принялись они сей же час взапуски предлагать Евмолпу свою поддержку.