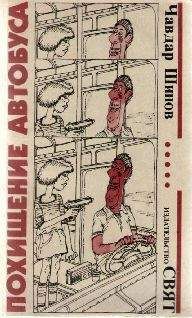Владимир Файнберг - Здесь и теперь
Однажды просыпаюсь как раз в момент боя курантов, потому что он перебивается крепким стуком в дверь нашей маленькой квартиры на втором этаже деревянного домика. Отец отпирает кому‑то, с кем‑то здоровается, мама целует кого‑то, все громче звучат голоса за стенкой. Потом дверь комнаты, где я лежу в кровати, распахивается, в прямоугольном проёме света — мама, кто‑то ещё, отец входит последним, включает электричество и здесь.
Человек в пиджаке и косоворотке наклоняется надо мной, холодными руками выхватывает из постели.
— Не бойся, это дядя Федя! — говорит мама.
Я и не боюсь. Сразу видно, что дядя Федя добрый. Он худощавый, низенький, гораздо ниже отца.
Дядя Федя говорит, что я стал совсем взрослый, а он помнит меня маленьким, когда они с папой были студентами текстильного института. Они вспоминают какую‑то песенку, где есть непонятная повторяющаяся строка: «Веревка — вервие простое». Оба смеются. Мама уже одевает меня, и я впервые после двенадцати ночи оказываюсь за столом вместе с пирующими взрослыми. Черная тарелка репродуктора над шкафом в углу комнаты безмолвствует, черны стекла окон, за которыми отстаивается глухая ночь.
Словно чтоб запомнилось на всю жизнь, дядя Федя задевает стулом привезённый им мешок с антоновкой, и та жёлто–зелёными ядрами дробно раскатывается по окрашенным доскам пола. Яблочный дух заполняет комнату. Мы весело сидим у стола под абажуром, как на островке среди моря яблок.
Дядю Федю перевели работать из какого‑то Моршанска к нам в Москву, в Реввоенсовет. Он рассказывает о том, что будет служить в отделе, снабжающем Красную Армию шинелями, о Тамбовщине, где работал на текстильной фабрике, о раскулачивании, о скрытых врагах советской власти, которым придёт конец. Потом они с папой начинают говорить о Германии, её пролетариате, крепнущей коммунистической партии.
Слово «Германия» — чёрного цвета. С первого раза, как услышал, — чёрного. И вот в этой черноте вспыхивают красные знамёна, точно такие же, какие вывешивает дворник Мустафа в праздники на воротах нашего дома. Красные знамёна, которые срывают какие‑то шуцманы, красная песня «Роте фане». Ее поют папа и дядя Федя. А мама наливает им крепкий горячий чай и приносит альбом с фотографиями. Последнее, что я вижу, — коричневое фото.
Рука дяди Феди лежит на папином плече, оба смотрят в объектив с такими же счастливыми молодыми лицами, как сейчас, когда поют песню.
Сколько проходит времени после той запомнившейся ночи? Год? Полтора?
Как‑то дождливым вечером сижу дома у окна, малюю акварелью картинки, вдруг с улицы, со двора ликующие вопли мальчишечьего населения:
— Машина! Машина!
Спотыкаясь от нетерпения, сбегаю из квартиры во двор, со двора через калитку на улицу. Сопровождаемая эскортом пацанов, подъезжает чёрная «эмка». Автомобиль — величайшая редкость в нашем деревянном переулке, где царствуют лошади, запряжённые летом в телеги, зимой — в сани.
И в этой «эмке», рядом с шофёром, сидит моя мама!
Черная дверца отворяется. Меня приглашают внутрь.
— Покататься?! — замирая от счастья, спрашиваю я.
— И покататься, и в гости, — отвечает мама. Она оборачивается ко мне, отирает носовым платком краску с рук и лица.
Машина набирает скорость. Мы выезжаем из переулка навстречу дождю, шуму вечерних московских улиц, где все гуще сверкают витрины, огни окон и фонарей.
Пожилой шофёр суров и сосредоточен. Шелестят по мокрому асфальту шины.
По дороге мама знакомит меня с Москвой: «Вот школа, где ты будешь учиться», «Вот Садовое кольцо», «А вот это Кремль, Москва–река».
Мы проезжаем через мост, под которым в маслянисто–чёрной воде отражаются огни набережной, сворачиваем к огромному, словно туча, дому и, миновав арку, подруливаем к подъезду.
Робко вхожу в озеркаленную комнатку. Мама нажимает на кнопку. И пока нас тянет вверх неведомая сила, объясняет. Оказывается, нас пригласила в гости некая тётя, чьего ребёнка мама спасла, высасывая через трубочку какие‑то дифтеритные плёнки. То, на чём мы едем сейчас, называется лифт. Нет, лифт никто наверху не тянет, его просто движет электричество. Да, машина нас будет ждать, отвезёт обратно.
Выходим из остановившегося лифта. У высоких массивных дверей, прежде чем позвонить, мама ещё раз придирчиво оглядывает меня. Дверь открывает совсем не ожидаемая мною «тётя», а широкоплечий гигант с зеркально выбритым черепом. На его гимнастёрке, перетянутой портупеей, орден.
В передней хаос раскрытых чемоданов, баулов. Путаются под ногами обёрточная бумага, бечёвки.
— Здравствуйте, здравствуйте, проходите! — выглядывает из кухни разрумяненная жаром женщина в переднике с оборками. — Муж вернулся из Берлина! Из Германии! Сейчас кончу с пирогами — и за стол. А мальчика, он у вас совсем как Митенька, Петр Васильевич, проведи пока в детскую!
Гигант берет мою ладонь в свою надёжную тёплую руку, мягко отрывает от мамы, ведёт коридором к комнате с открытой дверью.
Там на тахте, прикрытый одеялом в разноцветную клетку, полулежит худой, бледный Митенька, ещё не вполне оправившийся после болезни. На ковре у тахты валяются раскрытые коробки с игрушками. Петр Васильевич гладит меня по темечку, знакомит с сыном и оставляет нас вдвоем… Заводной германский танк с черным крестом на башне ползёт по ковру, выплёвывая из ствола снопы разноцветных искр. Черная Германия настигает меня и солдатиками в широких касках, что, стоя на месте, бегут с ружьями в руках.
И потом — в гостиной — разговоры взрослых о том же германском пролетариате, который вот–вот совершит революцию. Правда, Петр Васильевич, в отличие от папы и дяди Феди, не верит, что это может совершиться так скоро. Он герой Гражданской войны, учится в военной академии в Берлине, ему виднее.
Уплетая выставленные на стол неслыханные яства, я всё поглядываю на обритый могучий череп со следами сабельного удара, на орден Красного Знамени. Ощущение надёжности, силы и чистоты, исходящее от этого человека, все сильнее охватывает меня.
Но мама уже тянет за руку из‑за стола. Я захожу попрощаться к Митеньке. Затем, получив роскошный подарок — германскую заводную железную дорогу с паровозом, вагонами, рельсами, — мы выходим к лифту. Жена Петра Васильевича целует меня, маму, ещё раз благодарит её за Митеньку. Петр Васильевич опять молча проводит рукой по моей голове.
Жест этот грустный. А может быть, так только кажется, потому что мне грустно уходить из этого дома. Мы опять волшебно спускаемся на лифте. Внизу действительно ждёт шофёр в «эмке». И обратный путь через опустевшую Москву ещё впереди.
Еще впереди и тот страшный вечер — через несколько месяцев? через год? — когда я невольно подслушиваю жаркий шёпот мамы, говорящей отцу:
— Помнишь ту историю с мальчиком, с дифтеритом, я тебе рассказывала? Какой ужас — этот Петр Васильевич оказался немецким шпионом! Расстрелян. Встретила на рынке его жену. Опустилась. Продает вещи. Ее с ребёнком высылают из Москвы. Благодарила, что подала ей руку…
Глава третья
Пока ехал в троллейбусе, повалил снег. У Белорусского вокзала я пересел в метро, а когда поднялся наверх у «Сокола», все уже было бело. Одолевая зыбкую стену валящихся хлопьев, я шёл к Левкиному дому на перекрёстке, мимо которого проезжал вчера вечером…
Н. Н. жил так близко — всего три автобусные остановки отсюда. Территория эта стала теперь запретной и оттого ещё более манящей.
«Подобное притягивает подобное, — сказал вчера Н. Н., — на каком уровне будете мыслить, на таком и будут решаться проблемы». На какой уровень и как надо было подняться, чтобы разрешить неразрешимое: придумать хоть мало–мальски достойный сценарий для реализации гошевской затеи?
Я уже перешёл перекрёсток, как вдруг моего слуха коснулась мелодия. На приглушённом фоне оркестра явственно пела скрипка. Я приостановился. Казалось, перемигивание светофоров, укутанных в пушистый белый наряд, кружение машин, самый полет снегопада — всё подчинилось некоему явному единству, похожему на обещание счастья.
Я не сразу сообразил, что музыка слышна из замершего в череде других автомашин «жигуля» с приспущенным боковым стеклом, словно владелец, несмотря на непогоду, решил поделиться мелодией со всем городом. Но вот светофор смигнул красный цвет на зелёный, и мелодия стала непоправимо отдаляться.
Я тщетно вслушивался — не продлят ли скрипку другие автомашины, тоже имеющие радио. Музыка исчезла.
Я рванул дверь парадного; поднимаясь в лифте, наскоро сбил кепкой снег с плаща и, едва Машенька впустила в переднюю, тотчас спросил:
— Где радио? Работает?
Девочка привычно зыркнула на мои руки, в которых на этот раз была всего лишь папка, и только потом ответила:
— Радио у нас на кухне, дядя Артур.