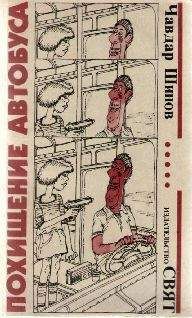Владимир Файнберг - Здесь и теперь
Принесли из духовки пресловутую баранью ногу, подали бруснику к ней. Гости наворачивали изысканные кушанья, произносили тосты; кто рассказывал о своих перипетиях с перепродажей автомашины, кто зазывал на следующие нерабочие дни к себе на дачу, обещая роскошную лыжную прогулку. Даже Паша с Ниной вписывались в эту благодушную атмосферу хорошо пристроившихся к жизни людей.
Наконец, когда внесли надраенный старинный самовар и Анна Артемьевна стала заваривать английский чай с жасмином, появился Георгий Сергеевич. Вид у него был отрешённый.
— Что случилось, Гоша? Уж не прикорнул ли ты там в кабинете? — спросила Анна Артемьевна.
Тот ничего не ответил, подсел ко мне и всё время, пока пили чай, втолковывал, что среди принесённых марок есть пять–шесть особенно редких, очень дорогих, за которые он готов уплатить по каталогу.
— Я их не покупал и продавать не стану. Возьмите себе все, раз доставляют удовольствие.
— Нет, я не могу себе этого позволить, — горячился Гоша.
— А я могу! — отрезал я и увидел, что Анна Артемьевна, слышавшая наш разговор, с укором посмотрела на меня.
…Когда я собрался уходить вместе с Пашей и Ниной, взявшихся подвезти меня на машине, она вынула из стенного шкафа в передней добротное чёрное пальто, подала.
— Мне кажется, вы — человек без этих противных условностей. Наденьте, пожалуйста. И я буду за вас спокойна. И Гоше так будет легче. Поверьте, у него есть что носить.
Какую‑то секунду я смотрел в её чёрные, слегка подведённые глаза, потом молча надел пальто. Оно оказалось впору.
2Вместе с земным шаром и всем, что на нём находится, я медленно теку в чёрном пространстве. Вокруг, то приближаясь, то удаляясь, текут иные миры. Всё это, наподобие кровяных шариков, находится в теле непомерно огромного существа. Большего, чем космос. Может быть, похожего на человека. Снаружи мне его никогда не увидать. Заключенный внутри него мельчайшей частицей, я знаю, что и во мне точно такие же, только совсем уже крохотные миры. Миры со своим сознанием.
Я завишу от них так же, как огромное существо зависит от таких, как я. Если мы будем плохими, ему станет худо.
Это — моя догадка, тайна, о которой я никогда никому не рассказываю.
3Солнце ещё плавится на окнах и крыше «Метрополя», а площадь начинает погружаться в сиреневый сумрак. Только что отгремел ливень, смыл первую пыль начавшегося лета.
Я стою на тротуаре, на краю мокрой площади. С зелёного острова в центре неё сквозь запах бензина пробивается аромат доцветающей сирени.
Сейчас, когда опрокинутый в мокрый асфальт светофор перемигнет с красного на зелёный, я перейду туда, в сквер, чтобы вынуть из бокового кармана пиджака бережно свёрнутый в трубочку аттестат, снова разглядеть его, — со школой покончено!
Вдруг воздух уплотняется. Мимо моего лица со свистом проносится что‑то белое. И с маху — об асфальт. Это залетевшая сюда с Москвы–реки чайка. Видимо, она приняла площадь со всеми её отражениями за поверхность воды. Рыхлый ком перьев и пуха недвижим. Его обтекает ручеёк с радужными разводами бензина.
Глава одиннадцатая
Теперь у меня было тёплое, как оказалось, ратиновое пальто, руки надёжно защищены перчатками. И сценарий утвердили. Правда, с заменой рисунков. «Весна, лето, осень — что тут советского? — подозрительно глянув в глаза, спросил Гошев. — Нет уж, пусть рисуют приметы нашего образа жизни».
«Нарисовать бы тебя, как ты есть, толстого, в подтяжках — вышел бы босс сицилийской мафии», — зло подумал я.
Уже не в первый раз я замечал, что от Гошева попахивает водочным перегаром. «Любопытно, отчего такие, как он, пьют? Власть, деньги, положение — что ещё надо?» Как‑то в коридоре на студии мне показали гошевскую любовницу — пухленькую Зиночку, взятую по протекции на должность администратора. Именно она была назначена директором «Праздничного представления». Я поморщился. По доброте души я исполнил своё обещание — взял оператором заочника ВГИКа Кононова, даром что тот не снял ещё ни одной картины. И вот Зиночка, тоже не имеющая никакого опыта…
А если вспомнить, что и сам я, по милости Гошева, после дипломного фильма три года не имел практики…
«Не беда. Короткометражка. Всего одна часть», — утешил я себя, когда все они, да ещё художница Наденька, собрались в отведённой нам комнате, чтобы составить смету картины и расписание съёмок.
— Так ведь фильм‑то детский! — удивилась Зиночка, пробежав глазами сценарный план. — Говорят, хлопот с ними! Знала бы — не согласилась.
— Наоборот, хорошо. На детей дополнительное время. И плёнка, — возразил Кононов.
— Плохо ли, хорошо ли, давайте‑ка приниматься за дело, — сурово вступил я в свою новую роль.
Кроме Наденьки, в этом маленьком коллективе у меня союзников не было. Ей одной нравился неформальный подход к самой идее «Поздравления», она предлагала эскизы фона для каждого из пяти номеров, придумала ввести в один из них полёты авиамоделей с резиновыми моторчиками.
— Надо экономить государственные средства, а не удорожать смету, — бурчала Зиночка.
— Модели достану бесплатно. Красивые, как бабочки, — горячилась Наденька. — Договорюсь с руководителем кружка, где занимается мой Костя. Все беру на себя.
— Зачем это? — морщился оператор. — Будут всё время вылетать у меня из кадра. Следи за ними — лишняя морока.
— Прекрасная идея, — вмешался я. — Спасибо, Наденька!
За неделю, отпущенную до павильонных съёмок, надо было отхронометрировать номера, нарисовать и утвердить декорации, записать фонограммы, получить от детей рисунки и, самое главное, иметь на руках покадровый режиссёрский сценарий.
Это только на вид работа казалась пустяковой. Порой легче снять посредственный полнометражный фильм, чем вот такую малость, где не спрячешь за диалогами, за сюжетом отсутствие идеи.
А идея у меня была. Я осознал её лишь после вчерашнего стояния на Каменном мосту. Но пока держал в себе. Не поделился ни с кем.
Худо–бедно подготовительная работа пошла. У меня даже хватило времени заехать в редакцию, отдать Анатолию Александровичу очерк и рассказать об инциденте в аэропорту.
— Пугнули тебя. Чтоб больше не ездил. Могло быть и хуже. Между прочим, часов в одиннадцать звонил Нурлиев — интересовался, готова ли статья, торопил, чтоб скорее напечатали. Иди отчитывайся в бухгалтерию, а я пока прочту.
Когда я вернулся в кабинет, статья лежала на столе поверх бумаг. На ней оглоблями вверх валялись очки Анатолия Александровича.
— Артур, ты сам понимаешь, в какую историю втягиваешь газету, да и меня?
— Конечно, понимаю. А куда деваться? Так оно все и есть.
— Не сомневаюсь, что так оно все и есть. Если хочешь, в истории с Атаевым и Невзоровым ты ничего нового не открыл. Подумаешь — заставляют принимать незавершёнку! Да я тебе сто, тысячи писем покажу со всей страны. — И Анатолий Александрович стал лихорадочно вытаскивать из ящиков стола пухлые папки с подборками писем, потом полез в стенной шкаф, где на полках тоже грудились папки.
— Неужели вы думаете, что я сейчас буду все это читать? Чтоб вы знали, у Атаева пистолет в таком же ящике. Человек реально борется, может пасть мёртвым, пока вы тут, простите, бабью истерику закатываете, боитесь втянуться в кампанию, которая заденет первого секретаря республики. И если эта история типична — тем более надо печатать.
— Видишь ли, легко быть смелым, когда не работаешь в газете, не получаешь зарплаты.
— Да. Мне очень легко, Анатолий Александрович.
Мы помолчали.
— Ну извини, — он вздохнул. — Я ведь к тебе лично хорошо отношусь. Ты не знаешь, чего мне стоило тогда решиться послать сценарий в самую высокую инстанцию…
— Во–первых, я вас об этом не просил. А во–вторых, Анатолий Александрович, давайте хоть в этот раз не будем дипломатничать, юлить. Встанем вровень с Атаевым и Нурлиевым. А что касается зарплаты — можете поздравить, с сегодняшнего дня я её тоже получаю.
Я стал рассказывать о том, как обернулось дело на студии. Но Анатолий Александрович слушал невнимательно, поглядывая на телефоны, тарабанил пальцами по краю стола.
— Когда у них Пленум ЦК?
— Не знаю. Может, со дня на день.
— Ладно. Иди снимай своё кино, а я попробую кое с кем посоветоваться.
Я спустился к раздевалке, уже подавал номерок гардеробщице, когда кто‑то ухватил меня за плечи, навис заиндевелой от морозного дыхания бородой, загудел в ухо:
— Крамер, Крамер, а я‑то думал, ты давно уехал в края невозвратные… Куда же ты девался тогда? Ни в печати, нигде столько лет…
Огромный колоритный мужик с лицом, утопленным в бороду чуть не по хитрые, умные глаза, стоял передо мною.
— Здравствуй, Афанасий.