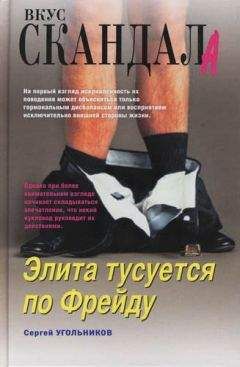Жак Лакан - Работы Фрейда по технике психоанализа.
Итак, я иду дальше, зная, что даже самые горячие энтузиасты идеи развития, если таковые здесь остались, не смогут в возражение указать мне на позднюю дату этого феномена после того, как Ипполит с блеском продемонстрировал, что первичным он является для Фрейда лишь в мифическом смысле.
Итак, Venverfung полагает конец всякому проявлению символического порядка, то есть пресловутому Bejabung, которое предстает у Фрейда как тот первичный процесс, в котором атрибутивное суждение берет свое начало и который являет собой не что иное, как изначальное условие для того, чтобы нечто реальное могло предстать в откровении бытия, или, говоря языком Хайдеггера, быть отпущено в бытие. Именно к этому дальнему рубежу Фрейд и ведет нас, ибо лишь позже может что бы то ни было оказаться обретенным там в качестве сущего.
Таково основополагающее утверждение, возобновление которого возможно лишь посредством завуалированных формбессознательной речи, ибо единственным путем, которым человеческий дискурс позволяет к нему вернуться, служит отрицание отрицания.
Но что же происходит с тем, что этому Bejahung принадлежит, но в бытие "не отпущено"? И Фрейд с самого начала на этот вопрос отвечает следующее: то, что субъект отторг (verworfen) таким образом от, скажем так, открытости бытию, не обнаружится больше в его истории, понятой как то место, куда вновь и вновь является то, что было вытеснено. Причем я прошу обратить внимание, насколько впечатляет отсутствие в формуле Фрейда малейшей двусмысленности: субъект не захочет об этом "ничего знать в смысле вытеснения". И в самом деле, ведь чтобы у него было нечто, что можно было бы в этом смысле знать, это нечто должно было бы прежде так или иначе явиться на свет первоначальной символизации. А что же, повторяю, происходит с нем на самом деле? Происходит то, что вы сами прекрасно видите: то, что не явилось на свет символического, возникает в реальном.
Именно так и следует понимать фрейдовские EinbeziehunginsIch, включение в субъект, uAusstossungausdemIch, выталкивание из субъекта. Именно это последнее и образует реальное как область того, что пребывает вне символизации. Вот почему кастрация, в данном случае отторженная субъектом и оказавшаяся для него в результате за границей возможного, а тем самым и за пределами возможностей речи, станет возникать в реальном, и возникать бессвязно, то есть в отношениях сопротивления без переноса — подобно пунктуации без текста, сказали бы мы, развивая только что использованную нами метафору.
Ведь реальное не ждет, собственно говоря, субъекта, ибо оно ничего не ожидает от речи. Но оно здесь, идентичное с собственным существованием, шум, в котором можно расслышать все что угодно и который готов заглушить своими раскатами все то, что создает в нем под именем внешнего мира "принцип реальности". Ибо если суждение существования действительно функционирует так, как явствует это из фрейдовского мифа, то происходит это за счет мира, у которого хитрость разума дважды изъяла причитающуюся ей часть.
Какой же еще смысл можно придать тому повторному разделению на внутреннее и внешнее, которое артикулируется во фразе Фрейда: "Esist, wiemansieht, wiedererneFragedesAussenundlnnen" ("Речь снова идет, как видим, о проблеме внешнего и внутреннего")? Посмотрим, в самом деле, когда возникает у Фрейда эта фраза. Вначале имеет место первичное отторжение, то есть возникает реальное как внешнее по отношению к субъекту. Затем внутри представления (Vorstellung), образованного путем воспроизведения (воображаемого) первоначального восприятия, возникает различение реальности как той составляющей этого объекта первоначального восприятия, которая не просто полагается самим субъектом в качестве существующей, а может быть вновь найдена им (wiedergefunden) на том месте, где он способен овладеть ею. В этом, и только в этом, отношении операция эта, всецело спровоцированная принципом удовольствия, выходит, тем не менее, из под его контроля. Но в реальности этой, которую субъекту предстоит скомпоновать в хорошо темперированной гамме своих объектов, реальное, будучи отторгнуто от первоначальной символизации, содержится уже заранее. Можно даже было бы сказать, что оно разговаривает само по себе. Субъект может наблюдать, как оно появляется оттуда в форме вещи, весьма далекой от предмета, который мог бы принести ему удовлетворение, — вещи, по отношению к нынешнему характеру его намерений самой неуместной. Вот что такое галлюцинация в ее радикальном отличии от интерпретационного феномена. А вот свидетельство о ней, записанное под диктовку субъекта рукою Фрейда.
Субъект рассказывает ему, что "пятилетним ребенком он играл с няней в саду, делая надрезы в коре орешника (роль которого в его сне известна). Неожиданно он с необъяснимым ужасом заметил, что разрезал себе мизинец (на правой руке или на левой — этого он не помнит), и что мизинец этот держится только на коже. Боли он при этом не испытывал — только страшное волнение. Сказать что бы то ни было находившейся от него в паре шагов няне у него не хватало духу. Он опустился на скамью и сидел, не в силах снова взглянуть на раненый палец. В конце концов он успокоился, посмотрел-таки на палец, ипредставьте себе — тот оказался невредимым".
Предоставим самому Фрейду со свойственной ему скрупулезностью подтвердить, используя тематические резонансы и биографические соотношения, извлеченные им из субъекта путем ассоциации, все символическое богатство этого галлюцинаторного сценария. Но не позволим этому богатству вскружить нам голову.
В отношении предмета, нас интересующего, мы гораздо больше узнаем из того, что данному явлению сопутствует, нежели из самого рассказа, который подчиняет явление условиям возможности его передачи. То, что содержание его укладывается в эти условия настолько хорошо, что становится неотличимо от известных мотивов поэзии и мифологии, ставит нас, конечно, перед серьезной проблемой. Но хотя формулировка проблемы возникает сразу же, не исключено, что решение ее следует отложить до следующего этапа — хотя бы лишь для того, чтобы мы с самого начала знали, что простым решением здесь не обойтись.
И в самом деде: в рассказе об этом эпизоде бросается в глаза факт, для понимания его совершенно не нужный, скорее наоборот — мы имеем в виду неспособность субъекта рассказать о случившимся в момент, когда оно произошло. Обратим внимание на то, что перед нами случай, обратный той трудности в отношении забытого имени, которую мы с вами только что анализировали. Там субъект потерял способность распоряжаться означающим, здесь же его останавливает странность означаемого. Дело доходит до того, что он бессилен даже дать знать о чувстве, которое при этом испытывает, хотя бы в форме крика о помощи — и это несмотря на то, что рядом человек, более чем кто-либо готовый на этот призыв откликнуться: его любимая няня.
Больше того — если вы позволите мне употребить, ради выразительности, словечко, заимствованное из просторечия, я бы сказал, что он "не возникает"; его описание собственного поведения в этот момент наводит на мысль, что он не просто замирает в неподвижности, а затягивается в какую-то временную воронку, возвратившись из которой он уже не в состоянии сосчитать круги, преодоленные им во время спуска и подъема, тем более, что возвращение на поверхность обычного времени никак не зависело от его собственных усилий.
Эта черта немотствующего изумления встречается замечательным образом еще в одном случае, почти точной копии этого, сообщенном Фрейду случайным корреспондентом.'
Черта временного провала непременно получит какие-то значимые соответствия.
Мы найдем их в тех формах, в которых происходит припоминание в момент рассказа. Вы знаете, что когда субъект собирался говорить, ему вначале показалось, что он эту историю прежде уже рассказывал, и что эта деталь галлюцинаторного феномена показалась Фрейду достойной отдельного рассмотрения, став впоследствии предметом одной из работ, которые стоят в этом году у нас в программе.
Что касается способа, которым Фрейд эту иллюзию воспоминания объясняет — а объясняет он ее тем фактом, что субъект прежде несколько раз рассказывал ему, как его дядя купил ему по его просьбе карманный нож, в то время как сестра его получила в подарок книгу, — то он будет занимать нас лишь постольку, поскольку в нем подразумевается нечто от функции памяти как экрана, Другой аспект процесса припоминания сближается, как нам кажется, с идеей, которую мы собираемся высказать. Мы имеем в виду поправку, которую субъект вносит в свой рассказ задним числом: орешник, о котором в этой истории идет речь; орешник, который, знаком нам не хуже, чем ему, когда он упоминает о присутствии его в своем кошмарном сне, представляющем в материале этого случая некоторым образом самый существенный элемент — орешник этот, оказывается, привнесен в его сон извне, из воспоминания о другой галлюцинации, где не себе, а дереву ребенок пускает кровь.