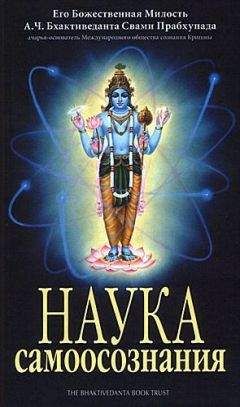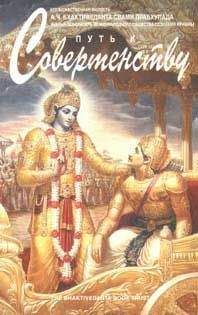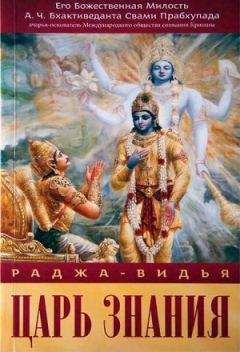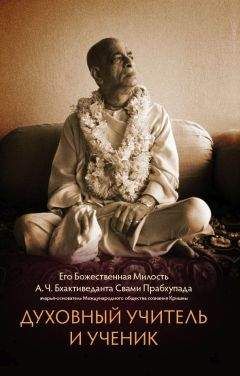Андрей Кочергин - «…Или смерть?» Дворовый Катехизис Русского человека
Дальше, по словам отца Рафаила, он помнит всё очень смутно. Как потом рассказывали прихожане, присутствующие при этой сцене, молодой иеромонах сгреб хохочущего курильщика (а отец Рафаил обладал совершенно выдающейся физической силой), выволок его на улицу на паперть храма и нанес такой удар, о котором до сих пор вспоминают очевидцы…
И в тот же момент отец Рафаил пришел в себя.
Как в замедленном кино, он с ужасом видел, как несчастный хулиган отделился от земли, воспарил над папертью и, грохнувшись оземь, остался недвижим…
Двое насмерть перепуганных товарищей бросились к нему и, озираясь на отца Рафаила, за руки поволокли приятеля прочь от храма к воротам монастыря. А отец Рафаил, осознав, что произошло самое ужасное и что он теперь не сможет служить литургию, схватился за голову и опрометью бросился в келью отца Иоанна, своего духовника.
Отец Иоанн в этот час как раз совершал монашеское молитвенное правило. Ворвавшись без стука в келью к старцу, отец Рафаил рухнул перед ним на колени. В отчаянии он поведал о своем преступлении и стал умолять, если возможно, простить ему этот грех и сказать, что же ему теперь делать.
Отец Иоанн внимательно выслушал и сурово отчитал своего воспитанника:
– Ты что ко мне под епитрахиль лезешь? Это не ты ударил, это Ангел!
Но всё же прочел разрешительную молитву, благословил и отправил его служить литургию
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
Интервью на тему «Подвиг монашеский и подвиг воинский»
– Андрей Николаевич, уже неоднократно на страницах этой книги вы вспоминали о своей поездке на Афон, в частности, о своем визите в монастырь Дохиар. Что вас больше всего удивило в ходе вашего паломничества, что из увиденного и пережитого оказалось для вас открытием, произвело наиболее сильное впечатление? И наоборот, что показалось странным, разочаровало?
– На самом деле, это был мой первый опыт долгого пребывания в монастыре, когда я не пришел к какому-то конкретному Отцу для отправления своих каких-то треб, а полностью погрузился в монашескую жизнь, будучи, по сути дела, трудником, то есть трудился вместе с монахами и жил их жизнью.
Меня поразил распорядок дня, в котором на сон официально отводилось четыре часа. То есть подъем у них в три часа, когда в храме начинается заутреня, большая служба, где все монахи поют, участвуют в богослужении. После этого начинается подготовка к трапезе, потом молебен перед трапезой, трапеза, и так день не спеша продвигается к девяти утра. В девять утра начинается работа, которая длится без обеда до девяти часов вечера. С девяти вечера до одиннадцати идет вечерняя служба и в одиннадцать у них отбой. До трех утра. И так каждый день.
И первое мое впечатление от Дохиара было такое, что всё это как-то неверно, как-то чересчур и неправильно, какой-то это был по ощущениям исправительный лагерь. Жесткая дисциплина, постоянный контроль всего происходящего со стороны игумена как представителя администрации, армейские, почти «старослужащие обычаи» и всё подобное в этом духе. Такое впечатление у меня сохранялось, пока я не завел разговор о том, что полоть тоненькие, пробивающиеся через камни ростки травы в тридцатиградусную жару – бессмысленно, потому что они сгорят к обеду. На что отец Исидор, удивительный человек, кандидат филологических наук и золотой медалист МГУ, человек, знающий семь мертвых языков, блестящий ученый, принявший монашеский постриг, сказал поразительную по глубине вещь: «А мы что тут, сельским хозяйством занимаемся? Ты что думаешь, мы тут траву полем? Мы тут с диаволом сражаемся, который нам шепчет: «Бросай, сдавайся, спрячься, не делай, не слушайся, пререкайся!» А мы смиряем себя и тем самым обретаем ту силу, которая позволяет нам думать, что мы в состоянии противостоять ему – самому падшему ангелу. Тому самому ангелу, который сумел искусить богоподобных Адама и Еву». То есть вот этим самым трудом, вот этим самым, порой изуверским Подвигом, они по крупице преодолевают тот адамов грех, который несет в себе любой родившийся на земле человек.
По сути своей человек должен в конце своей жизни прийти к Богу более чистым, чем в момент своего рождения. То есть даже на младенце лежит печать того греха, который совершил Адам. И всей жизнью своей человек должен его преодолеть. Даже для Афона, в монастыре Дохиар столь жесткий устав и столь жесткие порядки, что многие его критикуют за чрезмерность. Но когда начинаешь узнавать, что представляют собой люди, состоящие в братии, то осознаёшь: бывшему наркоману или бывшему разбойнику другого места и быть не может. Потому что каждый принимает на себя труд и послушания, посланные Богом, лишь по силам своим, и никогда более того, а вспоминая тот грех, который несут они с собой, осознают то величие Подвига, который им придется претерпеть во искупление его.
Может быть, эта история ужасна, но там был мальчик из Гатчины, послушник, у которого от перенапряжения случился инфаркт. На вертолете его увезли в какую-то греческую больницу. На что игумен сказал: «Успеть бы постричь его до смерти, уходит мальчишка…» И как-то это чересчур, как-то это чрезмерно для обывателя: мечта мальчика о смерти в монашеском постриге. Но речь идет о том, что, свято веруя в Спасителя, в Бога, люди более чем стремятся в Царствие Небесное. И вот эта работа на грани «здравого» обывательского смысла, она и есть основа того «тренировочного процесса», который созидает очищением столь просветленную душу, что из нее уходят пороки людские и жалость к самому себе. Поневоле хочется сказать: глядя на монахов Дохиара, особенно старцев, понимаешь, что перед тобой существа уже небесные – глаза, полные радости, и тело, изможденное в трудах. И нет там печали, и нет там уныния, и нет там злобы на того же самого игумена, который еле ходит, истязаемый сахарным диабетом и говорит: «Всегда нужно делать больше того, что можешь, стремиться к тому, чтобы не по силам брать ношу. Понимая, что всё равно ты возьмешь только по силам твоим. Но страха брать не будет». И сколько Веры и Надежды в этих жестких словах старца, не дающего Братии того послушания, что не готов взять сам…
И в молитвенном Подвиге, и в трудах проходят эти дни, и это очень напоминает именно тренировочный лагерь, с уставом и боевой подготовкой, потому что монахи – это Воины Христовы. Спецназ Божий, если угодно.
Что не понравилось – так это отношение паломников, приходящих туда на экскурсию. Нельзя туда приходить, чтобы одним глазком глянуть на это всё. Монастырь – это прежде всего процесс, но никак не достопримечательность. Напомню, что в Дохиаре находится один из великих образов Пресвятой Богородицы: Скоропослушница. Обывательским языком можно сказать, что это телефон с Господом Богом: что бы ты ни попросил от сердца – сбудется. Люди просят порой такую чушь, что иначе как издевательством над Верой это и назвать нельзя.
Не так давно произошла история: приезжает какая-то группа крепких ребят с цепями на шеях и лысыми головами. Ну, Дохиар – и Дохиар, Скоропослушница – и Скоропослушница. Им объясняют, что это один из самых трепетных образов Матери Божией, которая спешит на помощь в любом деле, о котором бы Ее ни попросили. «Точно в любом?» – спрашивает один из них. «Да, в любом», – отвечают ему монахи. Он говорит «Хорошо!» и начинает достаточно эксцентрично молиться: «Матерь Божия! Тут машину бы поменять, а то я на своей уже третий год езжу, мне бы новую». Подмигнул и пошел. Все подумали: «Тьфу ты, срам какой. Ну ладно, бывает и такое».
Это были ребята откуда-то из Сибири. Через месяц этот парень примчался весь взмыленный обратно, и с красной от стыда мордой рассказывает: совершили они свое некое туристическое паломничество по Афону и благополучно вернулись назад. Прилетают в родной город, выходит он по трапу из самолета, встречают его товарищи из коллектива, как это принято называть, и говорят: «Ты знаешь, дружище, у тебя же день рождения был, и как-то мы его неверно отметили. Держи, брат, ключи от нового “мерседеса”». Он ножки подогнул и начал причитать: «Матерь Божия, прости меня, идиота, ради Христа!» А хочется мне ему вторить: «Матерь Божия, прости нас, грешных! Спаси и сохрани нас! Умоли Сына Твоего, Христа Бога нашего простить нас!» Глупости мы просим, глупости мы совершаем, и ведь знаем, что грешим, и от этого еще страшнее то, что мы делаем.
А смотришь на Отцов на Афоне, и понимаешь, что нет той цены, которую было бы зазорно заплатить за душу свою, чтобы спасти ее от искушения, злобы, ненависти и грязи, обретя Царствие Небесное и отвергнув ад. Чем собственно они там и заняты.
– Какое впечатление, положительное или отрицательное, оказалось для вас самым сильным: какая-то встреча, разговор, случай, история, которую вы услышали или в которой сами участвовали?
– Однажды я пришел в монастырь Святого Пантелеймона, а там комнату со Святыми Мощами открывают только для групп паломников. Понятно, что рабочий день в монастыре очень суетный, люди постоянно что-то делают и чем-то заняты, там бездельем не страдают. Я спросил одного монаха, будет ли группа. «Вроде будет», – ответил он. Спросил другого, он сказал также, что группа должна скоро прибыть. Сижу, жду. Час, второй, третий, но что-то никто не идет. А мне нужно было в тот день дальше идти по побережью, потому что ночь я хотел провести в келье Отца Авраамия, меня там ждали. А это горы, дорога неблизкая, да и нелегкая. И вдруг я понимаю, что, видимо, группы-то никакой и не будет. Подхожу к Отцу Олимпию, который заведует этой комнатой, а это, надо сказать, один из московских профессоров, который принял постриг. Говорят, он доктор наук, я, правда, не успел выяснить, каких именно, но это даже внешне очень благообразный и интеллигентный человек. Подхожу к нему и говорю сбивчиво: «Вот я пришел, мне бы…» Он вдруг молча хватает меня за руку и куда-то волочет, причем явно не в сторону комнаты. Я иду. Отец схватил, тащит – значит, на то были основания. Он подбегает к молодому монаху, который сидит в лавке перед входом, сует ему ключи и приказывает: «Веди его к Пантелеймону, веди, закрывай лавку и немедленно веди!» Я, как и тот монах в лавке, не понял, что случилось и отчего ко мне вдруг было проявлено такое отношение. «Веди, веди!» «Что случилось-то, так я же….» – попытался было выяснить монах. «Веди, закрывай лавку и веди!» Тот не смел ослушаться и повел к святыням меня и еще одного паломника, как выяснилось потом, скульптора из Москвы.