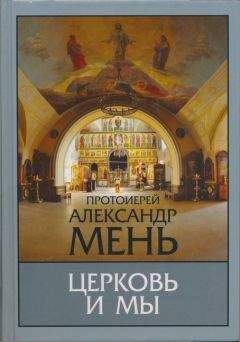Протоиерей Александр Мень - Из современных проблем Церкви
Все это подводит нас к третьей теме, поднятой Вами, теме, пожалуй, самой трудной: об отношении вероучения к жизни и этике.
Либерально–протестантские богословы типа Гарнака обычно обвиняли Церковь в том, что она заменила этическое христианство доктринальным. Конечно, кое в чем они были правы. Жестокость догматических споров и связанные с ними события, а также преследование еретиков в последующие века показали, как далеко от Евангелия способен увести доктринализм. Мы можем только радоваться, что теперь многие католики, православные и другие христиане умеют ценить дух и нравственную высоту тех, с кем они расходятся во мнениях. Сотрудничество в области этической, которое осуществляет ВСЦ, есть добрый признак. Но в то же время именно его деятельность имеет в себе опасность размывания вероучения, которое лишает христианство его силы. Ведь все св. Писание, включая Евангелие, говорит о конкретной вере в Откровение, воплощаемой в догматах. Вера есть вид познания, и поэтому в ней огромную роль играет постижение истины. Если она вытесняется этикой, все теряет очертания и грозит распылиться. Разве не правы были люди Ветхого Завета, когда отстаивали учение о едином Боге против язычества, разве не правы были Отцы Церкви, когда противились посягательствам ересей умалить или упразднить учение о Богочеловечестве? Ведь спор шел не о нравственных принципах. Они могут быть и вне христианства. Само же оно есть путь к Богу, открывшему Себя в определенных символах. Без этих символов христианская жизнь теряет свою основу.
Естественно, здесь встает вопрос о судьбе заблуждающихся, но если мы чувствуем, что и для них есть некая мера «оправдания», то неужели Господь менее благ, нежели мы с нашими немощами? Итог я мог бы подвести любимым моим изречением из бл. Августина: «В главном — верность, в спорном — широта, во всем — любовь».
И, наконец, о «священном». С высшей точки зрения все — священно, все принадлежит Творцу. Однако есть моменты жизни, где оно присутствует особым образом. Прообраз этот дан в Библии, где ясно выражено понятие о священном как о «прорыве Бога в мир», как о Его Присутствии. Это исполнилось через явление Христа. Но цель христианства — распространение этого священного на весь мир, на всю жизнь. Отсюда космический характер восточно–христианских таинств и обрядов (освящение св. трапезы в Евхаристии, таинство брака, водоосвящение и т. д.) С этим связано и благоговейное отношение к останкам святых, ибо они, по слову апостола, — «храмы духа». На Западе, особенно в Средние века, это тоже было, но сейчас, видимо, притупилось. Рациональная, техническая цивилизация есть антипод христианской идеи освящения космоса (только Тейар [32] умел как–то соединить эти два аспекта и м. б. его идеям принадлежит большое будущее).
Вы упоминаете Фрейда, но о нем поговорим потом, когда Вы мне напишете о своем понимании отношения Церкви к миру.
Храни вас Бог в Ваших трудах и служении. Прошу молитв. Поклон друзьям.
Ваш прот. А. Мень
27/28 сентября [ 1974 г. ]
Дорогой о. Александр!
Сейчас получил ваше письмо от 23 августа. Послезавтра уезжаю в Европу, так что не скоро вы получите ответ. Тут мои друзья интересуются этими вопросами…
Письмо ваше мне надо обдумать. Я решительно не верю, что склонность к созерцанию Страстей на Западе объясняется тем, что на Западе понимают человечество Воплощенного Слова глубже, чем мы. Я часто безмолвно молюсь в храме Воскресения — то на Голгофе, то у Гроба. Часто бывает, что отхожу от Голгофы (хотя там тихо).
Драма Голгофы меня смущает, отводит от молитвенного настроения, именно потому, что слишком живо переживаю то, что там некогда совершалось. Подхожу ко Гробу, где уже «все совершилось» и — становится тихо и по–христиански на душе.
Об отношении христианства к миру я, увы, вам не пара. Из «Суммы Теологии», по которой я учился, я выхожу неохотно, только когда действительно меня толкает. Лучше вам напишу, как и собирался, о том, как жизнь на Западе побуждает верующих в направлении классовой борьбы — понимая класс в широком смысле, как угнетенных.
Сердечно ваш свящ. Всеволод
20 ноября [1974 г. ]
Дорогой о. Всеволод!
Буду ждать вашего ответа с нетерпением. А пока лишь замечу, что вы невольно подтвердили мою мысль. Именно Ваше желание иногда отойти от Голгофы и молиться перед Гробом Воскресения указывает на вашу душевную и духовную принадлежность к восточному опыту Церкви.
С любовью ваш
прот. Александр М.
28 января 1975 г.
Дорогой отец Александр!
Только сегодня берусь ответить на Ваше письмо от 23 августа. Причина задержки — текущие дела, но только отчасти. Я, как и другие, восхищался широтой взглядов и проницательностью того, что Вы пишете, и почти со всем я вполне соглашаюсь, но в общем это не совсем к делу. Извините за критику: имея свободное время, я тщательно обдумываю то, что пишу, но я знаю, что Вы свободным временем не располагаете.
Я тоже недоумевал, почему Вы пишете, или, скорей, как Вы догадались, что я «поднял вопрос об отношении вероучения к жизни и этике». Совершенно несознательно я его поднял: мысленно я его отложил от прямой цели нашей переписки. Этой цели (объяснить, почему трудно православному общаться с католиками) я, кажется, достаточно добился. Потому во второй части этого письма я коснусь данного вопроса, а следующее будет, так сказать, иллюстрацией.
В молитве католик чужд чувству общности с другими (кроме настоящего монаха в своем монастыре). Он один перед Богом. Больше того, ни о каком чувстве радости в молитве обычно не говорят, разве только о радости о духовном мире. Во всяком явлении радости они склонны видеть особый путь, мистический. Но если радующийся радуется слишком постоянно, то его путь не подлинный. Ибо для них мистический путь — в основном путь страдания.
Говорю, напоминаю о традиционном католицизме, а не о новом духе. Кроме того, на Западе, конечно, встречаешь немало сияющих душ, хоть и меньше, чем у нас. Говорю о трафаретном понятии. Недаром Геббельс противопоставлял «идеал страдания христианства» своему идеалу. Хоть и несправедливо, это метко сказано о католиках. Мне как раз случилось сейчас высказать свое мнение по поводу одной книги, которая хорошо иллюстрирует католический «долоризм» [33]. Авторше — 85 лет, и поэтому она хороший представитель традиционного католицизма. Общая тема — о смерти. Ни эта дама, ни духовные лица, к которым она обратилась (главным образом, иезуиты: Даниелу [34], Рикэ [35]), не указывают на то, что необходимость смерти полагается приветствовать: по–моему, радостно пройти тем путем, который был нам открыт Христом. Об умерщвлении плоти она пишет:
Il est raisonnablement inconcevable que nos petites ou grandes souffrances ou privations puissent rejouir l'infiniment bon (…L'ascese est un acte d'amour, et un moyen), puisqu'elle nous donne l'occasion d'expier ce qui, dans ce monde ou au–dela, doit etre expie. Il nous revient d'expier notre purgatoire, ce purgatoire sur la nature duquel ou duree comme en intensite nous ne savons rien, sauf qu'il est inevitable. (…) Mais les saints? (…) Devant le mystere de la saintete, notre faible entendement recule. (…) Il est bon de noter que nos saints ont toujours ete des exemples d'equilibre et de joie. (Jean Portail. Savoir mourir, ed. SOS, 1974, pp. 52–54) [36].
Авторша очень далека не только от легенды об апостоле Андрее, но и от Франциска. Но они — «мистики». Совершенно в другом духе пишет о чистилище ровесник автора, нетрадиционный католик, который является одним из источников нового духа. Он обращается к Пресвятой Деве:
Nous ne demandons rien, refuge du pecheur,
Que la derniere place en votre purgatoire,
Pour pleurer longuement notre tragique histoire,
Et contempler de loin votre jeune splendeur.
Charles Peguy. Pelerinage a Chartres, vers 1910 [37].
Относительно пути одиночества перед Творцом, свойственного католикам, он действительно уже сам по себе трудный и крестный. И мне, живущему среди католиков, чуждых чувству общности, не было открыто другого пути. Это — царский путь и, как указывает корнесловие, — путь монаха. Но тот факт, что западные монахи знают и другой путь, указывает, насколько бытовой католический взгляд — односторонний. Однако стоит призадуматься о том, что рядовому католику предлагается только один путь — наивысший.
Путь суровый, да. Но сам он вовсе не ведет к страданиям или к созерцанию Страстей в том понятии культа Страстей, что принят на Западе (Франциск). Вот Вы говорите, что надо соединить восточное и западное благочестие. Легко сказать. Российская Церковь, по крайней мере, широко восприняла от Запада культ Страстей. Но самые кровавые, «итальянские» Распятия у нас отличаются выражением Лика. Художник изобразил не самую агонию, а момент смерти, когда уже «все совершилось». То, что нас смущает в попытках написать икону Моления о Чаше, это не столько художественная нищета, как факт, что икона не совершенна: не хватает утешения. Вы помните, в житии Тихона Задонского, как он лежал больной перед Распятием и как он вдруг бросился целовать ноги Распятого со слезами радости. Этот момент вовсе не понятен рядовому католику. Говорят: «Это какая–то опечатка». Вам известно, что духовное упражнение в 14–ти Стояниях Крестного Пути пользуется почти официальным признанием в католической литургике. 14–е Стояние есть Положение во Гроб, и только редкие верующие стали недавно прибавлять и 15–е — Воскресение.