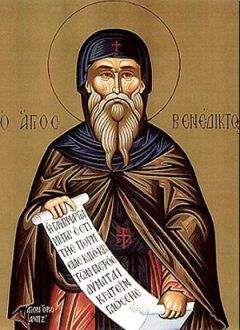Георгий Чистяков - С Евангелием в руках
Они были демократами. Не признавали никакой «эзотерики» ни в искусстве, ни в жизни. Они не обижались на большевиков за то, что те отняли у них имения и квартиры. Нет, они считали, что коммунисты виноваты совсем в другом: в том, что при них простому человеку по-прежнему живется плохо. «Всё, что было в царское время плохого, большевики усвоили, а всё хорошее растеряли», – любила говорить одна «арбатская» старушка.
Рассказывают, что в 1917 году внучка кого-то из декабристов, которой было тогда лет восемьдесят, услышав шум на улице, послала горничную узнать, чего хотят эти люди. «Чтобы не было богатых», – ответила горничная. «Странно, – воскликнула на это старушка, – мой дед и его друзья хотели, чтобы не было бедных». Не знаю, имела ли место эта история на самом деле, но partem veri fabula semper habet[52], и в этом рассказе, как в капле воды – вселенная, отражается как раз то, что составляло сердцевину жизнеотношения моей бабушки и ее современников. Увы, нам до них очень далеко.
Впервые опубл.: Русская мысль. 1997. № 4167(27 марта – 2 апреля). С. 16.Еще раз о молитве
В жизни почти каждого человека вне зависимости от того, считает он себя верующим или нет, почему-то наступает момент, когда вдруг оказывается, что он просто не может не упасть на колени, не может, еще не зная, что такое молитва, не начать обращаться к Богу именно с молитвой. Сам не зная, почему это ему так необходимо, человек начинает искать Бога – не потому, что без Него он не в силах объяснить мир вокруг себя, но по каким-то совершенно иным причинам. Нередко это случается с людьми, которые еще вчера и подумать не могли, что в них проснется религиозное чувство. И происходит это не в стародавние времена, а именно в XX веке.
В течение последних столетий наука, как писал В. И. Вернадский, «неуклонно захватывала области, которые долгие века служили уделом только философии и религии». Так, в XV веке Христофору Колумбу и даже Фернану Магеллану не раз приходилось выслушивать обвинения в том, что они отстаивают и распространяют воззрения, несовместимые с христианской верой и поэтому не соответствующие действительности. Не одни только католики видели в науке врага: в XVI веке Мартин Лютер и Максим Грек, опираясь на библейские тексты, резко выступали против утверждения о шарообразности Земли.
Хотя их взгляды в литературе для невзыскательного читателя продолжали тиражироваться довольно долго, однако еще при жизни погибшего в 1521 году Магеллана богословы в этом вопросе из наступления переходят в оборону. Библейские тексты повсюду в Европе начинают интерпретироваться таким образом, чтобы стало ясно, что они не противоречат той научной истине, которая неподвластна решениям каких бы то ни было инстанций и открывается вне зависимости от мнения того или иного иерарха.
В начале XVIII столетия Исаак Ньютон еще верит в Бога, хотя и декларирует, что исповедует эту веру по-своему, а Пьер– Симон Лаплас в последние годы того же века прямо говорит о том, что Бог – это гипотеза, в которой он для объяснения устройства солнечной системы просто не нуждается. Именно этими словами ответил он на вопрос Наполеона (без сомнения, не случайный, ибо Лаплас умел писать о звездном небе с огромным, почти библейским воодушевлением и восторгом), почему в его книге «Изложение системы мира» нет ни слова о Боге.
Однако оказалось, что христианство только выигрывает от того, что наука выходит из-под контроля богословия. По мнению Вернадского, в наше время – когда стало ясно, что «христианство не одолело науки в ее области», – под влиянием науки и прежде всего благодаря, казалось бы, проигранной борьбе с ней оно в действительности только «глубже определило свою сущность».
Именно сегодня «понимание христианства начинает принимать новые формы, и религия поднимается на такие высоты и спускается в такие глуби души, куда наука не может за ней следовать», – пишет Вернадский. И действительно: религия утрачивает роль сакрального знания, которую она взяла на себя еще в эпоху фараонов в Древнем Египте, и наконец становится верой в подлинном смысле этого слова, приобретая чисто евангельское измерение.
«Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, – восклицают фарисеи в Евангелии от Иоанна, в рассказе об исцелении слепорожденного, – Сего же не знаем, откуда Он» (Ин 9: 29). И в другом месте: «…знаю, что он воскреснет в воскресение, в последний день», – говорит Марфа Иисусу о своем умершем брате (Ин 11: 24). Как в том, так и в другом случае Иисус задает (и исцеленному от слепоты, и Марфе) один и тот же вопрос: «А ты веришь?»
Общеобязательное и нормативное знание о Боге теряет всякий смысл, на его место приходит личная вера каждого. Теряют смысл и любые попытки доказательства бытия или небытия Божия. «И какое мне дело, – писал Семен Франк в книге “Непостижимое” (1939), – до холодного “Бога нет”, если Ты, Боже, еси».
Двадцатый век оказывается эпохой, когда Бог перестает (вероятно, раз и навсегда) быть Тем, о Ком говорят и думают в третьем лице. Об этом практически одновременно заявляют три таких разных мыслителя, как Семен Франк, Мартин Бубер и французский иезуит отец Франсуа Варийон. Бог – это Toi (Ты), которое никогда не превращается в Lui (Он), говорит отец Варийон. «Говорить о Боге в третьем лице… кощунство; ибо это предполагает, что Бог отсутствует, не слышит меня», – пишет Франк. Бубер говорит о том, что идея Бога – «человеческий шедевр», однако есть еще и действительность, которая намного превосходит эту идею, но открывается только в личных отношениях между человеком и Богом. В отношениях «Я – Ты», которые каждый из нас должен выстроить самостоятельно.
В этой связи становится ясен смысл евангельских слов: «И отцом себе не называйте никого на земле: ибо один у вас Отец, Который на небесах» (Мф 23: 9). Иисус говорит здесь, что отношения между каждым без исключения человеком и Богом уникальны и поэтому не могут строиться при помощи посредника.
На основании чужого опыта или чужого мнения, а также на базе той или иной нормы эти отношения невозможны. Они могут быть реализованы исключительно в личной молитве каждого. Вот почему в Нагорной проповеди Иисус советует нам: «Войди в клеть твою и, затворив дверь твою, обратись к Отцу твоему, Который втайне» (Мф 6: 6).
Огромная значимость этого призыва становится ясна только теперь. Можно сказать, что именно XX век стал веком молитвы. И только теперь становится ясно, почему так нужно человеку молиться даже в тех случаях, когда он не нуждается в «идее Бога» для того, чтобы объяснить, что происходит вокруг, как это было в случае с Лапласом. Не испытывая потребности в идее, мы нуждаемся в личных отношениях с Богом – в сущности, именно в этом заключается та новая религиозность, о которой некогда заговорил со своими учениками Иисус.
В какой-то момент нашей жизни в нее входит Бог – вне какой бы то ни было зависимости от того, как мы относимся к идее Бога. Тогда мы идем и покупаем Молитвослов. В России еще десять лет тому назад это было трудно, почти невозможно – теперь он продается везде, но всё равно во многих случаях это не помогает, ибо, раскрыв его, мы сразу начинаем тонуть в словах.
Начинаем пытаться вычитывать или проговаривать про себя содержащиеся там молитвы полностью и как-то сразу превращаем молитву в заклинание, суть которого, в отличие от молитвы, состоит именно в том, чтобы его произнести. В молитве же суть заключается не в словах, ибо молитва как раз выводит нас через слова в те отношения, где никакие слова уже не нужны (слова в молитве – как тропинка в лесу: она помогает идти вперед и достигнуть цели, но продвижение по ней не является самоцелью).
Феофан Затворник сравнивал молитву по книжке с прописями, которыми пользуются дети, когда учатся писать, а Франсуа Мориак называл ее piste d’envol, то есть взлетной полосой для самолета. Важно не прочитать быстро или медленно, внимательно или нет, важно использовать эти слова, как ключ в замке, чтобы этим ключом открыть сердце навстречу Богу.
К каждому замку требуется свой особый ключ: к одному – Иисусова молитва, к другому – «Богородице Дево, радуйся», к третьему – «Отче наш» или молитва мытаря из Евангелия от Луки, а к четвертому – молитва «Верую, Господи, помоги моему неверию» (Мк 9: 24), к какому-то – акафисты и каноны и так далее.
Молитва как монолог, как наша просьба, обращенная к Богу, не имеет никакого смысла, «ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф 6: 8). Но тогда перед нами неминуемо встает вопрос: а зачем вообще молиться? Быть может, только для нашего самоуспокоения? Наша молитва не является ли тогда видом аутотренинга, самогипноза, психологической автокоррекции? Не случайно же современные психиатры и психотерапевты так настойчиво убеждают своих пациентов ходить в церковь и в особенности научиться молиться.