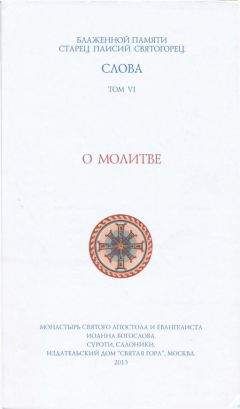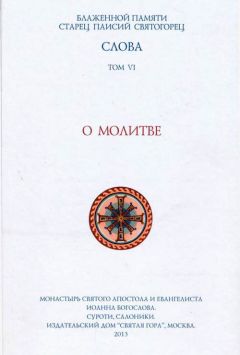Ханс Бальтазар - Сердце мира
Сердце Его, которое само по себе беззащитно, не защитит Его: ведь у Сердца нет рассудка, и оно само не знает, почему оно бьется. Оно не станет на Его сторону, более того, Оно предаст Его — ибо всякое сердце неверно. Сердце никогда не стоит на месте,
оно движется, оно бежит; и поскольку любовь всегда тянется к измене, изменит и Сердце — изменит, переметнувшись к врагу. Ведь это именно то, чего Сердце хочет — пребывать среди сынов человеческих; это именно то, что оно жаждет познать — познать, каков привкус иных сердец. Оно жаждет этого привкуса и готово заплатить за него, приняв эту плату на себя. Привкус же этот не забудется вовеки. Лишь сердце способно пуститься в подобные приключения, лишь оно способно на неразумие, которое лучше не поверять рассудком, о котором лучше просто молчать, которое может быть задумано лишь в союзе с плотью и кровью — все это несмышленость бедного сердца, которое именно из этой своей тайной бедности и из скудного достояния земной своей пашни извлекает такие сокровища, которым дивятся обитатели Неба.
Так пришел Сын в мир, и Сердце Его увело Его Бог знает куда, ибо каждое сердце нетерпеливо стремится сорваться с привязи, нюхом чуя какие-то следы, которых никто, кроме него, не замечает, и все пытаясь мчаться своим собственным путем. Но все же в конце концов они понимают друг друга — Сердце и его Хозяин. Сердце охотно следует воле Хозяина, посылающего его в глубь лисьей норы. Хозяин же охотно идет вслед за Своим сердцем, а оно толкает Его на смертельно опасное приключение — охоту на человека в первобытном лесу темного, боговраждебного мира.
Непостижимое знамение, явившееся посредине мира, между землей и небом! Разнородная, кентавроподобная плоть, в которой сплавилось воедино то, что, казалось бы, во веки веков должно быть отделено друг от друга — отделено дистанцией страха! Божественный океан вмещается в малый источник человеческого сердца; могучий Божественный дуб врастает в малый, хрупкий сосуд земного сердца. И уже не отличить Бога, властно восседающего на троне Своего величия, и раба, что работает до изнеможения и стоит на коленях в пыли. Царственное ведение Предвечного Бога вторгается в неведение человеческого смирения. Все сокровища Божественной премудрости и Божественного знания сложены в крохотной каморке человеческой нищеты. Видение Предвечного Отца доступно представлениям затемненной веры. Скала Божественной
уверенности нависает над потоками земных надежд. Треугольник Троицы коснулся своим острием сердца человека.
Так парит это Сердце между Небом и Землей — подобно узкому горлышку песочных часов, и безостановочно струится сквозь него из верхнего сосуда песок благодати, ниспадая на земную почву. Снизу же, поднимаясь сквозь это узкое отверстие, проникает в верхние сферы некий странный и чуждый небесам аромат, и ничто в мире бесконечной Божественности не остается им незатронутым. Незаметно, но настойчиво пронизывает этот красноватый Дap белоснежные обители Ангелов, и неприступная любовь Отца и Сына окрашивается в нежные и исполненные сердечной близости тона. Все Божественные тайны, лик которых был до поры укрыт за шестью крыльями, снимают покровы и, улыбаясь, смотрят вниз, на людей на земле. Ибо оттуда, с земных просторов, светит им лик их двойника — их собственный лик, как бы отраженный в зеркале.
Все единое становится двойным, и все двойное единым. То, что на земле, не есть бледное подобие небесной истины, но самое это небесное, переведенное на земной язык. Если усталый Слуга, утомленный тяжкой ношей прожитого дня, опускается на землю и, молясь Богу, касается земли челом, то в этом смиренном деянии заключено все преклонение Несотворенного Сына перед троном Отца. И деяние Слуги привносит в это небесное совершенство нечто от того усталого, исполненного боли, малоприметного и лишенного блеска совершенства, которым отмечено человеческое смирение. Но никогда не любил Отец Сына столь сильно, как в миг этого усталого коленопреклонения, в миг, когда Он поклялся вознести это Дитя превыше всех небес, вознести Его до высот Своего Отцовского Сердца — вознести это Дитя Человеческое, Которое есть Его Сын, и ради Него, Единого — вознести всех тех, кто Этому Единому и Самому Возлюбленному подобен, тех, на ком — пусть даже в неявном и искаженном виде — отпечатались черты Его Сына. И если Слуга становится игрушкой в руках палачей, если Он коронован терниями, а окровавленный лик Его настолько неузнаваем, что Отец видит больше человеческого
в убийце, которого тут же отпускает на свободу, а ревущая толпа затравливает насмерть Другого — Того, кто уже не есть Его Сын, то никогда вечное величие Отца не достигало более совершенной славы и большего сияния — ибо в неузнаваемом облике Отвергнутого совершенным и ослепительным образом отразилась воля Отца.
Кто может здесь разделить то, что более неразделимо? Кто может отделить величие Бога от рабского облика человека? Кто может различить в этих деяниях Бога на земле звуки человеческого инструмента, из которого извлечено все возможное, и дела благодати, что извлекают из скрипки те звуки, издать которые скрипка ранее не могла? Кто может определить, на что способно человеческое сердце, когда оно, превозмогая самое себя, становится отпечатком Божественного и именно таким образом способно предъявить все то предельно человеческое, что в нем заключено? Кто может указать границу между той человечностью, что заключена в земном сердце, и той, к которой тянется небесная любовь? И кто может сказать, что в этой второй своей небесной бесконечности сердце человеческое не должно более биться, ибо пресеклось его дыхание, ибо оно не достигает более границ этого мира, не достигает Бога, или что Божественному «Я» не хватает места, чтобы поселиться в этом — ставшем безграничным — сердце, и, следовательно, мир также не может легко и без усилий разместиться в нем? Кто столь в себе уверен, чтобы утверждать, что нам достаточно конечного начала, достаточно некоего тайного счастья в каком-нибудь земном уголке, что несколькими годами этого скромного и незаметного счастья довольствуется наше сердце? Кто скажет, что человеческое начало в нас чище именно тогда, когда надежно отделено от Божественного, что оно должно питаться преходящим и должно опуститься до того, чтобы пить свои собственные слезы, упиваясь ими, подобно отборному вину? Кто способен на это, вместо того, чтобы обратить взор на великое Сердце в центре бытия? Кто — вместо того, чтобы воспевать упадок и уничтожение — восхвалит ту любовь, с которой Всевышний взирает на униженность Своего творения, ту сверхчеловеческую
милость, по которой Он притягивает это творение к Себе, даруя кров и пристанище крови и плоти?
Воспой, сердце мое, широту Сердца Мира! Когда Триединое море с грохотом обрушивается с небес, вливаясь в малый сосуд, навстречу ему вздымается снизу иное море — все времена и все с траны, все мутные потоки мира, вся черная пена греха, и все но — предательства и трусость, упрямство, страх и позор — рвется наверх и судорожно колотится о Сердце Мира. Оба моря бьются друг о друга, сталкиваясь, как вода и пламя, и на узком пространстве между ними свершается вечная битва между Небом и адом. Тысячу раз должно было разорваться под этим напором Сердце Мира, но оно держится, стоит и побеждает в схватке. Полную чашу Неба и ада осушает оно одним глотком, поглощая стенания бездны вместе с блаженством вершин. Но и в ликовании, и в плаче ни на миг не прекращает оно быть тем, чем было всегда — обычным человеческим сердцем. Это малое Сердце не дрогнет, даже если ему придется противостоять двойному натиску, двойной буре любви и ненависти, двойной вспышке осуждения и милости. Оно не дрогнет и тогда, когда Отец оставит его и, как бы устранившись, присоединится к гонителям — оставит в середине мира, мечущееся в ледяной тьме, опаленное пламенем ада, окруженное всеми немыслимыми гримасами греха, оставит в непредставимом страхе, заживо погребенным, утонувшим в бездонной бездне. Но даже смерть не может убить его, и все воды преисподней не поглотят его. Это Сердце продолжает любить даже тогда, когда Отец отдалился от него, и потому нет ничего более великого, чем это Сердце; чудеса сердца человеческого превосходят Божественные чудеса, но это не просто сердце — это человеческое Сердце Бога.
Не стоит забывать: если человеческая ограниченность способна принять в себя Божественную полноту, это дар Бога, а не некое свойство, изначально присущее творению. Лишь Бог способен сделать конечное бесконечным, не разрушая при этом самого конечного. То, что сердце способно принять Божественные масштабы, есть чудо, но еще большее чудо есть то, что Бог способен ограничить Себя масштабами человека; что разум Господина
вместился в разум Слуги; что предвечное и неизменное видение Отца доступно слепоте раздавленного червя; что совершенное «да», сказанное воле Отца, могло быть произнесено проклятым и до смерти замученным Агнцем; что вечное противостояние любви, соединяющее Отца и Сына в Их объятиях в Духе, превратится в противостояние Неба и ада, противостояние, которое заставит Сына стонать: «Жажду», а Дух превратит в неизмеримый, разделяющий и непреодолимый хаос; что Триединство в искривленном зеркале страдания предстанет как единство судьи и преступника; что вечная любовь способна натянуть на себя маску Божьего гнева; что бездна бытия может соскользнуть в бездну ничтожества.