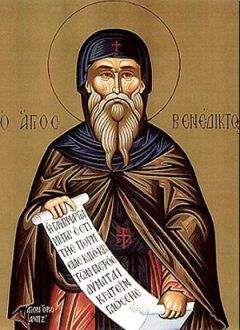Георгий Чистяков - С Евангелием в руках
Твердо знали, что если он сидит за письменным столом у себя в Пушкинском Доме, то она возможна – русская культура, современная, но уходящая корнями в прошлое, открытая всему миру и открывающая себя всему человечеству. Знали и то, что возможна пламенная любовь к Родине без национализма, национальной гордыни, бряцания оружием и ненависти к Западу.
Осторожный и крайне деликатный, он становился резким и бесстрашным, когда надо было защитить – храм ли от разрушения или человека от преследований. Лихачёв широко пользовался тем, что рано стал академиком: публиковался, издавал свои и «проталкивал» чужие книги, добивался издания не издававшихся (почти запрещенных) авторов, выступал по телевидению, радио, давал интервью и т. д. Без его подвижнического труда в 1950–1980 годы сегодня Россия была бы совсем другой. Без его книг и всей его деятельности, скорее всего, не состоялось бы то обращение России к православной вере, которое возможно сегодня.
Сахаров, Солженицын, Лихачёв и отец Александр Мень – вот четыре человека, сделавшие, пожалуй, больше всего для будущего нашей страны в годы брежневщины, коммунистической власти и диктата марксистско-ленинской идеологии и докторов философских наук, задача которых заключалась в том, чтобы отучить молодежь, желательно навсегда, думать, размышлять и свободно принимать решения. Именно они помогли тысячам людей не превратиться в роботов.
Сахаров и Солженицын говорили правду о режиме, отец Александр Мень – правду о Боге, а Дмитрий Сергеевич показывал, что и в этих чудовищных условиях можно оставаться честным, заниматься настоящей наукой и принадлежать не к советской, а к русской культуре и интеллигенции. Лихачёв прививал читателю, который никогда не переступил бы порог храма и никогда бы не взял Евангелие в руки, ибо был приучен к тому, что в Бога веруют только сумасшедшие или фанатики, любовь к древнерусской книге, к иконе, к славянскому языку, к чистоте жития наших святых и подвижников, известных и неизвестных. Учил прислушиваться к тому, как бились сердца этих святых, и в результате подводил к Евангелию. Размышляя над теми портретами людей Древней Руси, которые выходили из-под пера Дмитрия Сергеевича, читатель его книг неминуемо задавался вопросом, а что делало этих людей такими. И получал ответ – вера христианская.
Лихачёв редко прямо говорит о Боге, но, показывая многогранность и, главное, глубину литературы Древней Руси, намечает для своего читателя верную дорогу к Нему. Его читатель не станет озлобленным и нетерпимым, замкнувшимся в своем понимании веры фанатиком, но будет непременно человеком открытым и чувствующим Божие присутствие в мире и среди людей, ибо не верность той или иной системе, а именно личную веру пробуждает он своими книгами.
Дмитрий Сергеевич всегда выступает против поспешных и скороспелых выводов, настаивает на детальном изучении источников, текстологическом анализе, выявлении прототипов того или иного текста, на кропотливой работе – он всегда против схем и вульгаризации в любой форме.
Широта и щедрость – его неотъемлемые качества как ученого и как человека. Особая тема в его творчестве – неповторимость человеческого «я», чудо личной уникальности каждого. Он серьезно настаивает в одной из книг на такой, казалось бы, несерьезной детали: ребенок должен дать своей кукле имя, открыть в ней что-то абсолютно индивидуальное. Иначе он (или она) потом не откроет и своей собственной индивидуальности и просто не найдет своего места в жизни. Настаивает, ибо знает, что это чрезвычайно важно.
Дмитрий Сергеевич не стремится сделать в науке всё, наоборот, он сознательно оставляет работу для следующего поколения, зачастую только намечает приблизительный «маршрут» для будущего исследователя. Так, в сделанном в 1960 году докладе «Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России» он отвергает теорию, согласно которой мистики XIV века стремились к бегству от мира и толкали людей на уход из реальной жизни. Он показывает, что именно авторы произведений так называемого «высокого» стиля умели «найти общее, абсолютное и вечное в частном, конкретном и временном, невещественное в вещественном, христианские истины во всех явлениях жизни». Потом об исихазме будут написаны сотни работ, авторы которых убеждены (и, наверное, справедливо), что пошли много дальше Лихачёва. Но был бы их путь возможен, если бы не было Дмитрия Сергеевича?
Не случайно, наверное, родился Дмитрий Сергеевич в первый день Рождественского поста, поста светлого и радостного, связанного с ожиданием той святой ночи, когда ангел возвестил нам великую радость. Но трудного – как всякий пост. Светла, чиста и радостна его жизнь, но бесконечно трудна. Как бы вся окрашена в тона этих дней церковного года.
Как не благодарить Бога за то, что Он посылает таких людей на землю! Долголетие. Думается, что оно тоже даровано ему не случайно. Он – современник поэтов и мыслителей начала века, соловецких мучеников и исповедников, сам принадлежа к их числу, и вместе с тем – сегодняшних студентов и школьников, тех, кто родился после 1980 года. Но не просто пассивный современник, а активный – звено между XIX и XXI веками, последний интеллигент дореволюционной России и первый – России, освобождающейся от тоталитаризма.
Впервые опубл.: Русская мысль. 1996. № 4152 (5—11 декабря). С. 9. (под заголовком «90 лет со дня рождения академика Д. С. Лихачёва»).Булат Окуджава и Лев Копелев
Примерно месяц тому назад, в середине мая, Булат Окуджава, будучи в Германии, решил изменить маршрут своей поездки, чтобы заехать к Льву Копелеву в Кёльн. Так в последний раз в своей жизни встретились два писателя. Умершие один вслед за другим, друг на друга похожие и в то же время совсем разные. Оба безмерно честные. Оба – последовательные демократы.
Лев Копелев не просто человек с комсомольским прошлым. Он даже в лагере, как сам рассказывает об этом в книге «Утоли моя печали», долгое время оставался вполне советским человеком, а первое время – и пламенным поклонником Сталина.
За девять с половиной лет ГУЛАГа он так и не сумел понять (и это тоже его собственное признание), что дело не в Сталине, а в системе, и продолжал упорно верить в «незыблемую справедливость основных положений марксизма-ленинизма». Сталина считал хотя и жестким политиком, но всё же выдающимся государственным деятелем, не хотел сравнивать с Гитлером и Муссолини. Затем при Хрущёве, перечитывая стенограммы партсъездов и другую партийную литературу, убедился в ложности былых представлений о вожде, хотя «всё же верил в праведность Ленина и самым научным средством познания истории считал тот критический метод, который разрабатывали Маркс, Энгельс» и т. д.
Шли годы. «Я убедился, – пишет Лев Копелев, заключая книгу воспоминаний, – что уже не способен шагать ни в каком строю… теперь я не принадлежу никакой партии, никакому “союзу единомышленников”. И стремлюсь определять свое отношение к истории и к современности теми уроками, которые извлек из всего, что узнал или сам испытал». Бывший в юности вполне «правильным» советским человеком, Копелев пришел к той жизненной философии, о которой будет говорить потом всю жизнь, именно сам, без посторонней помощи, иногда даже сопротивляясь Солженицыну и вообще тем, кто пытался ему что-то доказать.
Его мировоззрение отличает очень спокойное и трезвое не отрицание, а именно неприятие кумиров: «Хочу быть свободным от какой бы то ни было рабской зависимости духа. И уже никогда не поклонюсь ни одному кумиру, не покорюсь никаким высшим силам, ради которых нужно скрывать правду…»
Коммунист в прошлом, он не стал антикоммунистом, он выбрал какой-то другой путь, который, наверное, можно назвать путем личной свободы. Любимым словом Льва Копелева становится слово «терпимость». «Терпимость – главное условие сохранения жизни на земле. Терпимость не требует скрывать разногласия и противоречия. Напротив, требует, понимая невозможность всеобщего единомыслия, именно поэтому воспринимать чужие и противоположные взгляды без ненависти, без вражды. Не надо притворяться согласным, если не согласен. Однако нельзя подавлять, преследовать несогласных с тобой», – писал он, приближаясь к концу своей жизни. Копелев цитирует Вячеслава Иванова, которого вообще очень ценит и считает одним из своих учителей: «Достижение понимания каждого человека как другого, равного в каком-то смысле Я, и создает нравственные основы человеческого общежития».
Не механическая замена одной идеологии на другую, а нечто совсем иное – система, исключающая любой тоталитаризм, пусть даже принимающий самые неожиданные формы. «В первом веке нашей эры было сказано: “Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны миротворцы…” За два тысячелетия еще никогда, как сейчас, не были необходимы именно миротворцы. Настоящие – нелицемерные, бескорыстные, терпимые миротворцы». Вот они – «те беспредельные миры Евангелия», которые, как признается сам писатель, он в конце концов открыл для себя, хотя никогда публично не называл себя христианином. Копелев услышал в Нагорной проповеди ту ноту, которой мы часто не замечаем: Иисус зовет нас к уважительному и бережному отношению друг к другу, и это не есть какой-то способ достичь внешнего мира, «мирного сосуществования». В этом призыве таится нечто значительно более глубокое – путь к Богу открывается только для того, кто признаёт право другого на его взгляды. В противном случае этот путь ведет не к Богу, а только к моему представлению о Боге.