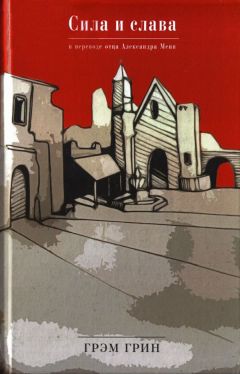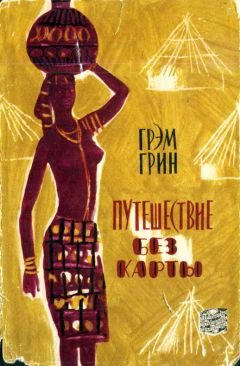Грэм Грин - Путешествия без карты
1 Пер. Е. Голышевой и Б. Изакова.
5
Между 1929 и 1978 годами уместилась жизнь, за которую я немало успел наработать, но, прежде чем подумать о покое, я должен был выполнить данное когда‑то самому себе обещание. После войны я решил написать роман о шпионаже без свойственного этому жанру насилия, которое, несмотря на Джеймса Бонда, не было свойственно британской разведке. Я хотел показать разведку без романтики, как образ жизни, при котором люди каждый день ходят на службу и зарабатывают пенсию, ничем практически не отличаясь от других служащих банковских клерков, например. Все буднично, безопасно, и у каждого есть куда более важная личная жизнь. За годы, что я прослужил в разведке, мне редко приходилось сталкиваться с сенсациями или мелодрамой.
Вместо них были конфликты между людьми в тени одного гигантского конфликта: когда, например, я работал один в Сьерра–Леоне, а мой шеф, живший за тысячу миль от Фритауна, в Лагосе, не платил мне какое‑то время жалованье или когда я с горечью наблюдал за тем, как начальника полиции во Фритауне, одолевшего двадцать лет тяжелейшей службы и черную лихорадку, сводит с ума наглый щенок из МИ-5. Мелодрамы же трагически не хватало была, правда, одна отчаянная попытка уговорить моряков задержать, пока не поздно, португальский лайнер, прошедший территориальные воды, и арестовать швейцарца, заподозренного в шпионаже, но мне в этом славном деле досталась всего лишь роль курьера.
Когда я вернулся в Лондон, наступила пора досье, досье, бесконечных досье. В Лондоне, как я уже писал прежде, я отвечал за контршпионаж в Португалии, и моим начальником был Ким Филби, которого гораздо позже, после его бегства в Советский Союз в 1963 году, иронически окрестили «третьим человеком». Нас не тревожили ни насилие, ни мелодрама — давала себя знать только скука да некоторая вялость от замкнутого образа жизни, потому что пять человек, работавших в нашем маленьком секторе, вынуждены были чересчур много общаться друг с другом. У нас было мало знакомых вне службы, поскольку они могли бы заинтересоваться, что мы делаем в своем так называемом «филиале министерства иностранных дел». Единственное, чем я одарил разведку, когда уходил из нес, был справочник «Кто есть кто» (о нем упоминает «герой» «Человеческого фактора»), изданный, если я правильно помню, тиражом двенадцать экземпляров. Его составил я. В нем содержались сведения о немецких агентах на Азорах с двумя вступительными статьями (основанными на очень сомнительных данных), об администрации и сельском хозяйстве островов и с дополнением Кима Филби о радиосети. Он предназначался нашим десантникам. Интересно, сохранился ли где‑нибудь в архиве хотя бы один экземпляр этого справочника? Я бы не отказался перечитать его сегодня.
Конечно, разведка с тех пор сильно изменилась, и, сочиняя свой роман, я пользовался порядком устаревшим материалом. Я начал писать «Человеческий фактор» за десять лет до того, как он был опубликован, и в отчаянии бросил его, промучившись два или три года. Мне казалось, что он станет еще одной незаконченной работой, которыми был завален мой стол (три недописанных романа лежат на нем и сегодня). Бросил я его в основном из‑за истории с Филби. У моего двойного агента Мориса Касла не было ничего общего с Филби ни в характере, ни в убеждениях, и никто из моих персонажей не имел ни малейшего сходства с известными мне людьми, но все‑таки я боялся, что мою книгу примут за roman a clef 1. Я много раз убеждался в том, что могу списать с реального человека только очень незначительный или проходной персонаж. Реальный человек заступает дорогу воображению. Можно использовать манеру говорить или внешние приметы, но, написав несколько страниц, я понял, что не могу использовать этот персонаж дальше просто потому, что плохо знаю его — даже если он мой близкий друг. С вымышленными героями я чувствую себя намного увереннее я знаю, что доктор Персивейл из «Человеческого фактора» восхищается картинами Бена Николсона, я знаю, что. когда полковник Дейнтри вернется с похорон сослуживца, он откроет банку сардин.
1 «Роман с ключом» (фр.).
Шло время. Я написал «Почетного консула», которого, пожалуй, предпочитаю всем остальным своим романам. Мне казалось, что впереди у меня — только годы немоты, и все это время «Человеческий фактор», еще не имевший названия, висел у меня на шее, как мертвый альбатрос. Таким же мертвым, как эта птица, было и мое воображение. И все‑таки в тех двадцати тысячах слов, которые я написал, что‑то было — особенно мне нравилась сцена после охоты в загородном доме у С. Она не давала мне покоя, я не мог заняться ничем другим и в конце концов нехотя и неуверенно снова взялся за этот роман, успокаивая себя тем, что история с Филби отошла в прошлое.
Возможно, не давало мне покоя еще и наше лицемерие по отношению к Южной Африке. Было совершенно ясно, что как бы громко правительства западных стран ни осуждали апартеид, как бы много они ни говорили о его безнравственности, они ни за что не позволят черному населению и коммунистам захватить власть. Если операции «Дядюшка Римус» не существовало, это не значит, что она не могла осуществиться, и очень скоро. Я не столько придумывал, сколько предсказывал.
Роман был написан, и я избавился от наваждения, но из этого не следовало, что я должен его печатать. Я долгое время размышлял, не положить ли его в стол, чтобы дети издали его после моей смерти. Я никогда не бываю доволен своими книгами, но этой я был недоволен особенно. Я предал свой замысел. В романе было насилие смерть Дэвиса, и доктора Персивейла никак не назовешь типичным для британской разведки служащим. Картина получилась не такой реалистичной, как мне хотелось, и спасает роман только человеческий фактор его названия. Как любовная история история любви пожилого человека к своей жене — он, пожалуй, удался.
Я послал экземпляр книги в Москву своему другу Киму Филби и получил от него интересный ответ. Он меня справедливо критиковал. В моем романе Касла встречают в Москве слишком сурово, писал Филби. В его собственной квартире было все, вплоть до рожка для обуви вещи, которой у него не было никогда прежде. Правда, я был более ценным агентом, чем Касл, добавлял он. По поводу доктора Персивейла Филби правильно заметил, что его, наверное, пригласили в мой роман из ЦРУ. Доктор Л., которого мы оба знали, не был способен намеренно отравить человека, хотя его диагнозы и славились своей неточностью. (Он не пускал меня во время войны в Западную Африку, потому что был убежден, что у меня диабет. Более надежный специалист определил небольшую нехватку сахара в крови.)
Другой мой московский друг, профессор Валентина Ивашева, указала, что времена русских печей давно миновали теперь во всех московских квартирах паровое отопление, и при переиздании я «печь» заменил на «батарею». Но больше я ничего в квартире Касла улучшать не стал, потому что, как я сообщил в своем ответе Филби, описание квартиры я позаимствовал из книги воспоминаний его жены Элеоноры Филби «Шпион, которого я любила».
Двадцатью годами раньше, после «Ценой потери», мне показалось, что больше я писать не смогу — во всяком случае, романы, — и теперь мне тоже так казалось, но писательское воображение, как и тело, не взирая ни на что, безрассудно сопротивляется смерти. Вот так и получилось, что во время Рождественского завтрака с дочерью и внуками в 1978 году, в Швейцарии, через девять месяцев после публикации «Человеческого фактора», мне в голову неожиданно пришла идея новой книги — «Доктор Фишер из Женевы». В семьдесят пять лет я убедился в том, что будущее так же непредсказуемо, как в тот день, когда я сел за материнский письменный стол в Берхемстеде и принялся писать свой первый роман: «Он миновал вершину холма, когда погасли последние лучи…»
ПУТЕВЫЕ ЛИСТКИ. ДОРОГИ БЕЗЗАКОНИЯ
Глава 1. Граница
ЧЕРЕЗ РЕКУ
Граница — это больше, чем таможня, чиновник, проверяющий ваш паспорт, солдат с ружьем. Там, по другую сторону границы, вас ожидает новый мир, и с жизнью сразу что‑то происходит, как только вам проштемпелюют паспорт и вы, ошеломленный и безгласный, оказываетесь среди менял. Тот, кто отправился на поиски красот природы, воображает себе дивные леса и сказочные горы; романтик думает, что женщины в чужом краю красивей и сговорчивей, чем дома; несчастный верит в новый ад, а тот, кто путешествует в надежде встретить смерть, ждет, что она его настигнет на чужбине. Здесь, на границе, все как будто начинается сначала, она сродни чистосердечной исповеди — счастливый, краткий миг душевного покоя между двумя грехопадениями. О смерти тех, кто умер на границе, обычно говорят «счастливая кончина».
Лавки менял составляют в Ларедо целую улицу, сбегающую вдоль холма к мосту, принадлежащему двум странам; по другую его сторону, в Мексике, они карабкаются вверх на холм точно такой же улицей, только немного более грязной. Что побуждает путешественника остановиться перед тем или иным менялой? Одни и те же цены были выведены мелом на всех лавчонках, спускавшихся к небыстрым бурым водам реки: «1 доллар — 3 песо 50 сентаво». Турист, должно быть, выбирает по лицу, но тут и лица были одинаковы — лица метисов.