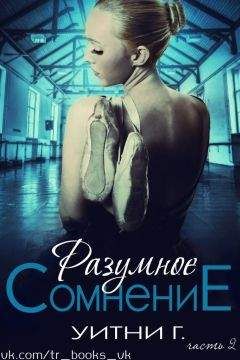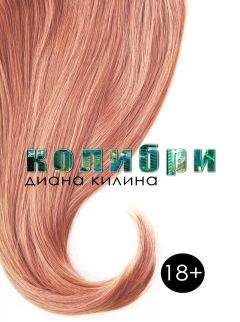Пьер Шоню - Во что я верую
Но не это трагическое видение времени мешает мне уверовать во временную протяженность. Её я сознаю непосредственно. В крайнем случае, можно сказать, что в поле моего сознания нет ничего, кроме чувства протекания моего бытия. Я говорил вам, что стал историком, потому что обладал этим мучительным, почти навязчивым сознанием ушедшего времени, зияющей пропасти, какой мне виделся предшествующий мир, потому что мне не терпелось научиться выстраивать в рамках мгновения необходимое для настоящего представление о прошлом. Я верю в прошлое, я даже верю в прошлое как в единственную реальность, как в единственно существующую ощутимость: я принимаю ее за ускользающую реальность, до которой я в силах дотянуться только через завесу времени. Прошлое в такой же мере удалено от меня, как и галактики, сигналы которых улавливают огромные радиотелескопы.
Прошлое волнует меня; для того, чтобы познать его, я располагаю сознанием протекающей во мне временной протяженности, а также воспоминаниями о прожитых мной пятидесяти с лишком годах[139] — и временем, при помощи которого я это прошлое измеряю.
Измерять время — значит совместить измерение времени с опытом временной протяженности. Тяжкая задача. Биение сердца, физиологические потребности, чередование дней и ночей, цикл времен года, цикл возрастов жизни — всё это относится к временной протяженности. Добавьте сюда, в условиях христианского сообщества, время, нужное для того, чтобы прочесть молитву «Отче наш». Да тут еще колокол, что отбивает часы и призывает на молитву. Кстати, именно ради молитвы мы стали в конце XIII века создавать первые механические устройства для измерения времени. Ещё до призванных сыграть такую важную роль астрономических часов — не они ли стали прообразом мира как машины в механистической философии начиная с Галилея и Декарта? — в конце XIII века первые часы были сооружены монахами. Коль скоро Господь подчеркивал, какой силой обладает совместная молитва, какое мощное воздействие оказывала бы молитва ночная, возносимая в ту пору, когда мир объят сном, всеми монахами ордена во всех концах христианского мира, дружно просящими об одном и том же! Техническая сноровка нескольких умельцев XIII века (увенчавшего то, что было справедливо названо промышленной революцией Средних веков) создала, во имя достижения такой согласованности действий в сфере божественного, первые устройства, успешно измерявшие время. В XVIII веке распространились часы наручные; на них появилась вторая стрелка; в 70-х гг. возник хронометр, ходивший в течение нескольких месяцев с точностью до секунды. Он дал возможность запечатлеть без погрешностей очертания морских берегов и отыскать путь к островам Тихого океана.
В XVII веке в Париже встречи назначаются на момент, когда стрелка показывает какой-то час или половину часа. Эроар, лейб-медик юного Людовика XIII, измерял, в виде исключения, свои занятия четвертями часа. Наша технология использует наносекунду, физическую единицу измерения времени, фиксирующую 1 миллиардную долю секунды.
«Для меня, к сожалению, невозможно начать фильм во время ноль и при бесконечной температуре. За пределами пороговой температуры, превосходящей 1 500 млрд. градусов по Кельвину (1, 5Ч1012° К), в мире содержалось бы множество частиц, именуемых мезонами, масса которых примерно равняется [1] /[7] массы ядерных частиц. В отличие от электронов, позитронов, мюонов и нейтрино, мезоны пи очень сильно взаимодействуют между собой… Наличие множеств столь сильно взаимодействующих между собой частиц чрезвычайно затрудняет расчеты, касающиеся поведения материи при столь высоких температурах. Во избежание столь сложных математических задач я начну свое повествование примерно в сотую долю секунды после начала, когда температура упала всего лишь до, приблизительно, ста млрд. градусов по Кельвину…»[XLIX]
Так говорит Стивен Уайнберг, лауреат Нобелевской премии за 1979 год, считающийся одним из трех или четырех величайших физиков, живущих в настоящее время, описывая настолько классическую систему в физической истории вселенной, что ее окрестили стандартной моделью.
В ходе этой первой сотой доли секунды, попавшей внаш календарь пятнадцать миллиардов лет назад (1, 5Ч10[10] лет), произошло больше событий, чем за отрезок времени, отделяющий нас от этого мгновения. Больше — за сотую долю секунды, чем за последующие пятнадцать миллиардов лет — минус эта сотая доля секунды. В уже цитировавшейся недавней статье[L] тот же Стивен Уайнберг определил в 10[30] лет среднюю долговечность протонов и нейтронов, которая ещё недавно считалась устойчивой величиной.
В этой доле секунды — 10-3, вмещающей больше событий, чем последующие 15 млрд. лет и три тысячи миллиардов миллиардов миллиардов лет самой обычной среди окружающих нас частиц, нам даны два критерия физического течения времени. Вот как действуют наши физики! Должен ли я уточнять, что это время не есть истинная временная протяженность, что это — абстракция, что между этой абстракцией и истинной действительностью, находящейся за пределами того, что можно вообразить, должна существовать связь столь же истинная, что и этот американский зонд, запущенный в 1977 году и продолжающий передавать сигналы и ныне, 27 августа 1981 года, потихоньку удаляясь от Сатурна к Урану, после того как он максимально приблизился к планете с кольцами в 5 ч. 24 мин. по парижскому времени — на 2, 7 секунды раньше, чем было предусмотрено. Простите за крохоборство, но точность обязывает.
Вот оно, это время, в котором я пребываю и сквозь которое проходит моя вполне конкретная временная протяженность — или ваша, друг-читатель, мой брат! Столь же конкретная, что и моя собственная. И всё это совершается под взглядом смерти, подкарауливающей меня — а, может быть, и вселенную.
Да, поистине, странная это штука — новое космическое время, в котором мы пребываем. Потенциально оно существует — осознать по-настоящему это не было дано никому в течение целого века с тех пор, как в 1850 году второй принцип термодинамики начертал стрелу времени внутри физической вселенной.
В течение двух столетий время буквально исчезало из нашего изображения мира. В доказательство вновь сошлюсь на Пригожина[LI]: «Всё дано» — выражение, над которым часто размышлял Бергсон, — чётко подытоживает «динамику и действительность, которые он описывает». Если вам известно состояние системы во время t и определяющий ее закон, вы получите всю систему.
«Всё дано, но, вместе с тем, всё возможно», — определение гладкое, доступное воображению. «Все основатели динамики, и среди них — Галилей и Гюйгенс, неявно провозглашали обратимость динамической траектории; они [охотно] говорили об абсолютно упругом шарике, подпрыгивающем при ударе о землю». Классическая динамика превратила эту обратимость в свойство любой динамической эволюции. Оно приводит к отрицанию времени. Обратимое время — это уже из области пространства, а не времени.
Первый принцип термодинамики — закон сохранения энергии — ничего не изменил. Всё сразу изменилось благодаря теплоте. Так, именно теплота взрывает порох. «Ignis mutat res» — огонь меняет [вещи], огонь низводит на низшую ступень. Теплота обозначила стрелу времени. Невозможно подняться обратно во времени. У природы тоже есть история. Время истории перестало быть несовместимым со временем жизни и временем истории. Вся полнота времени есть история. Наука о природе вновь стала естественной историей[140]. Это настолько верно, что общая физика вселенной превратилась в стандартной модели в историю первой сотой доли секунды и последующих пятнадцати миллиардов лет и что даже у протона и нейтрона, этих кирпичиков, из которых сложена природа, есть своя история, коль скоро у них есть временная протяженность [долговечность].
Мог ли я, историк, устоять перед соблазном такой причудливой, необыкновенной, волнующей науки? Столь, разумеется, сказочно сложной — да еще и абстрактной, — что она ускользает от моего понимания; что найдется очень немного умов, достаточно всеохватывающих для ее всестороннего понимания с одного взгляда. Стивен Уайнберг высится над физикой, как Пьер Поль Грассе — над биологией; и Артур Кёстлер как философ, пытающийся осмыслить естествознание, оказался перед необходимостью совершить немалое усилие, чтобы собрать достаточную информацию в области физики и биологии прежде, чем выявить смысл революции, связанной с новым научным духом.
Мог ли я устоять перед этими соблазнами?
Мог ли я не уверовать в науку, объединившую время, вернувшую ему значимость, соответствующую этой непосредственной данности моего сознания: протеканию временной протяженности во мне — и в вас, друг-читатель?