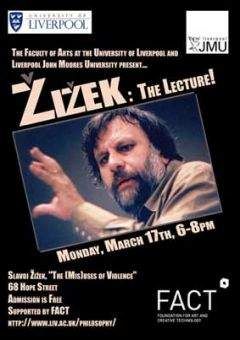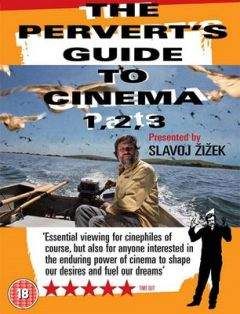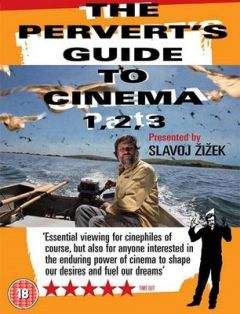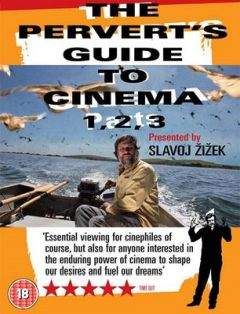Славой Жижек - Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие
Доказательством тому служит еще одна черта, отмеченная очевидцами: взгляд мусульманина. Это десубъективированный, пронизывающий насквозь взгляд, в котором тотальное бесстрастное равнодушие (угасающие «искры жизни», вовлеченного существования) совпадает с жуткой напряженной фиксацией, такой, будто взгляд замерз, оказался обездвиженным от увиденного, оттого, на что нельзя смотреть. Нет ничего удивительного в том, что в связи с этим взглядом вспоминают о голове Горгоны: помимо змеиных волос, ее отличает раскрытый будто в шоке, застывший в удивленной неподвижности рот и пронзительный взгляд широко открытых глаз, уставившихся на неименуемый источник ужаса, чье положение совпадает с нашим, положением зрителя. На более глубоком уровне мы сталкиваемся здесь с позитивизацией невозможности, из которой прорастает объект–фетиш. Как же объект–взгляд превращается в фетиш? Посредством гегелевского превращения невозможности видеть объект в объекте, который материализует саму эту невозможность: поскольку субъект не может прямо видеть эту смертоносно чарующую вещь, он совершает что–то вроде обращения–внутрь–себя–самого, посредством которого чарующий его объект становится самим взглядом. В этом смысле (хотя и не совсем симметрично), взгляд и голос — «рефлексивные» объекты, т. е. объекты, материализующие невозможное, «матемы», как сказал бы Лакан. Может быть, лучшим кинематографическим примером этого будет падение заколотого детектива Арбогаста со ступенек в хичкоковском «Психе»: пронзительный взгляд его неподвижной головы, снятый на движущемся фоне (вопреки тому, что обычно происходит в «реальности», где неподвижным остается фон, а голова движется), смотрит с блаженным выражением куда–то по ту сторону обычного ужаса, смотрит на вещь, что убивает его. У этого взгляда есть предшественники. Это пронизывающий взгляд Скопи в сновидении из «Головокружения». Это пронзительный взгляд летящего на пир убийцы из раннего недооцененного шедевра «Убийца» [69]. Где же здесь объект–взгляд? Это не тот взгляд, которым мы смотрим, но то, что смотрит, т. е. взгляд самой камеры, в конечном счете наш собственный (зрительский) взгляд. Мусульманина как раз–таки и характеризует этот нулевой уровень, на котором больше невозможно четко отличить взгляд от воспринимаемого им объекта, уровень, на котором сам шокированный взгляд становится предельным объектом ужаса.
Неожиданная истина этого возвышения Холокоста до невыразимого зла оборачивается неожиданным превращением в комедию: если никакая трагическая постановка не может быть адекватной ужасу Холокоста, то единственный выход из этого затруднительного положения — обратиться к комедии, которая, по крайней мере, загодя прием- лет неудачу передачи ужаса и, следовательно, проецирует этот ужас в свое собственное повествовательное содержание, в расщелину между запредельным ужасом происходящего (истребления евреев) и постановкой, организованной евреями ради выживания [70]. Успех фильма Бениньи «Жизнь прекрасна», кажется, отмечает начало нового жанра, невообразимого десятилетие назад, жанра комедии Холокоста. В сезоне 1999–2000 гг, вышел на экраны фильм «Лжец Якоб» с Робином Вильямсом, — римейк старой классики, снятой в ГДР на студии «Дэфа», В нем рассказывается история владельца маленького магазинчика в гетто, который ежедневно сообщает своим напуганным товарищам приободряющие их новости о приближающемся конце Германии, якобы услышанные им по имеющемуся у него радиоприемнику. В этом же сезоне появился и американский фильм, сделанный по румынскому «Поезду надежды». В этой истории жители маленькой еврейской общины, когда приходят нацисты и собираются отправить их всех в лагерь смерти, организуют «левый» поезд с нацистскими охранниками, садятся в него и вместо лагеря, конечно же, отправляются на свободу. Интересно отметить, что все три фильма центрируются вокруг лжи, позволяющей евреям справиться с тяжелым испытанием и выжить.
Проблематичность природы этого жанра возникает тогда, когда мы противопоставляем ему ранние, другого типа комедии Холокоста — «Великого диктатора» Чаплина, сделанного еще до второй мировой войны, «Быть или не быть» Любича 1942 года и попытки комедии Холокоста «Паскуалино — Семь красоток» Лины Вертмюллер 1975 года [71]. Первое, на что стоит обратить внимание, — над чем здесь смеются, ведь вo всех этих фильмах есть порог; который не переступается. Скажем, в принципе можно с легкостью представить себе «мусульман» в качестве объекта, вызывающего смех автоматическими бездумными движениями. Однако совершенно очевидно, что такой смех будет этически совершенно неприемлем. Более того, вопрос, которым здесь необходимо задаться, предельно прост: ни один из этих фильмов не является стопроцентной комедией, и в какой–то момент смех или сатира прекращаются и мы сталкиваемся с серьезным посланием. Так что вопрос таков: что это за момент? В чаплинском «Великом диктаторе» это очевидно патетическая заключительная речь бедного еврейского брадобрея. который, оказывается, занимает место Хайнкеля (Гитлера). В фильме «Жизнь прекрасна» это, наряду с прочим, и самая последняя сцена, в которой, вслед за появлением танка, мы видим ребенка после войны, счастливо обнимающего свою мать на зеленом лугу, а голос за кадром благодарит отца за то, что тот принес себя в жертву ради жизни сына. Во всех этих случаях есть некий патетический момент искупления. Именно его и не хватает в «Семи красотках». Если бы Вертмюллер снимала «Жизнь прекрасна», то фильм закончился бы выстрелом из американского танка по ребенку, ошибочно принятому за одинокого нацистского снайпера. В «Семи красотках» речь идет о карикатурном энергичном итальянце Паскуалино, одержимом семейной честью (Джанкарло Джаннини защищает честь своих семи не слишком уж красивых сестер), который приходит к выводу, что, если ему суждено выжить, то он должен соблазнить пухлую беспокойную женщину–коменданта. Мы становимся очевидцами его попыток предложить себя в эрегированном состоянии, в состоянии готовности к успеху своего предприятия… После успешного соблазнения он становится капо, и, чтобы спасти людей, оказавшихся под его началом, ему предстоит убить шестерых, в том числе и лучшего друга, Франческо.
Как и в прочих случаях, комедия попадает в тиски диалектического напряжения, впрочем, не в тиски искупительной патетики. Как мы видели, во всех остальных комедиях Холокоста в какой–то момент комедия прекращается, и мы оказываемся перед серьезным патетическим сообщением: заключительной речью бедного еврейского брадобрея Хайнкеля—Гитлера в «Великом диктаторе», речью польского актера, играющего Шэйлока в «Быть или не быть», финальной сценой «Жизнь прекрасна», когда ребенок воссоединяется с матерью и вспоминает жертвоприношение отца. В «Семи красотках», однако, комедия оказывается в тисках далекого от патетики ужаса — ужаса жесткой логики выживания в концентрационном лагере. Смех выносится за пределы «хорошего вкуса», он наталкивается на сцены сжигания трупов, на людей, совершающих самоубийство, прыгая в яму, полную человеческих экскрементов, на героя перед жестоким выбором необходимости стрелять в своего лучшего друга. Перед нами здесь не патетическая фигура маленького хорошего человека, сохраняющего героическое достоинство в чудовищных условиях, а жертва–превращающаяся–в–угнетателя, явно утрачивающая свою моральную невинность. Здесь нет заключительного сентиментального искупительного послания.
9. ОТЦЫ, КРУГОМ ОДНИ ОТЦЫ
В общем, деполитизацию Холокоста, его возведение в ранг предельного зла, некоего неприкасаемого исключения, недоступного «нормальному» политическому дискурсу, можно расценить и как политический акт крайне циничной манипуляции, политической интервенции, нацеленной на узаконивание определенных иерархических политических отношений. Во–первых, этот акт — часть постмодернистской стратегии деполитизации и/или виктимизации, превращения человека в жертву. Во–вторых, этот акт дисквалифицирует те формы насилия в странах третьего мира, за которые западные государства (но не только) несут ответственность; и насилие это подается как некое незначительное зло в сравнении с Абсолютным Злом Холокоста. В-третьих, этот акт служит для того, чтобы бросить тень на любой радикальный политический проект, т. е. чтобы подвергнуть запрету мысль (Denkverbot) радикального политического воображения: «Вы что, не понимаете, что ваши предложения в конечном счете приведут нас к Холокосту?»
Вопреки своей ограниченности, фильм Бениньи все же бесконечно превосходит своего «серьезного» двойника, «Список Шиндлера». В некоторых фильмах, снятых великими европейскими режиссерами, встречаются сцены, представляющие собой предельно претенциозный обман. Например, сцена десятка совокупляющихся пар в красно- желтой пыли долины Смерти из кинофильма Антониони «3абриски пойнт». Подобные сцены идеологичны в худшем смысле слова. Коммерческий кинодвойник такого претенциозного блефа — сцена, вобравшая в себя всю фальшь Спилберга. Впрочем, многие критики превозносили именно эту сцену из «Списка Шиндлера» как самую сильную с точки зрения игры обладателя «Оскара» Ральфа Финнеса. Речь, конечно же, идет о сцене, в которой комендант концентрационного лагеря встречается с одной заключенной, красивой еврейской девушкой. Мы сгущаем его длинный квазитеатральный монолог, пока застывшая в испуге от смертельного ужаса девушка молча смотрит перед собой. Его желание разорвано, ибо, с одной стороны, она его привлекает сексуально. но, с другой стороны, он считает её недостойным объектом любви в силу её еврейского происхождения. Это — яркий пример конфронтации разделенных субъекта и объекта — причины его желания.