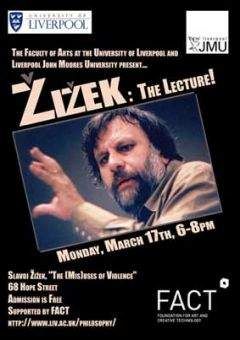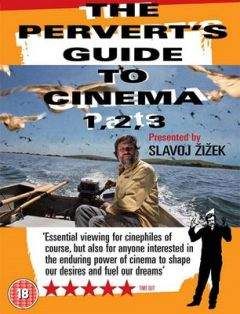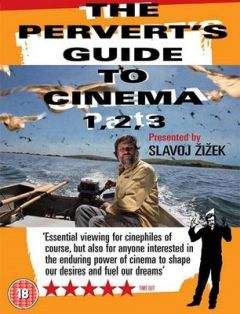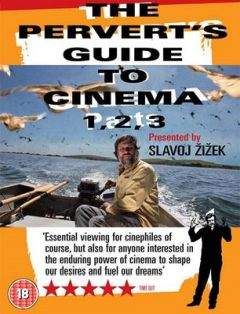Славой Жижек - Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие
Предельно важно отметить и то. что это игнорирование значимости сферы (материального) производства характерно как для либерально- консервативных идеологов «постиндустриального общества», так и для их явных оппонентов, немногих сохранившихся политических «радикалов». Политический «экстремизм» или «излишний радикализм» всегда следует понимать как феномен идеологически–политического смещения, как указатель на свою собственную противоположность, на ограниченность и отказ, по сути дела, «идти до конца». Разве не было якобинское обращение к радикальному террору своего рода истерическим отыгрыванием, свидетельствующим о неспособности поколебать собственно основания экономического порядка (частной собственности и т. д.)? И разве не то же самое касается и так называемого «избытка» «политической корректности»? Разве не демонстрируют ее сторонники бегство от беспокоящих действующих (экономических и прочих) причин расизма и сексизма? Возможно, пришло время воздать должное разделяемой всеми постмодернистскими леваками проблематике стандартного топоса, согласно которой политический тоталитаризм так или иначе проистекает из господства материального производства и технологии над межличностной коммуникацией и/или символической практикой, будто корень политического террора в том, что «принцип» инструментального разума, технологической эксплуатации природы распространяется также и на общество, так что людей принимают за сырье, которое предстоит превратить в Нового Человека. А что, если дело обстоит как раз–таки наоборот? Что, если политический «террор» сигнализирует о том, что сфера (материального) производства отрицается в ее автономности и подчиняется политической логике? Разве весь политический «террор», от якобинцев до маоистской культурной революции, не предполагает отвержение собственно производства в его самостоятельности и не подчиняет его политической лотке? Разве весь этот политический «террор», от якобинцев до маоистской культурной революции, не предполагает сведение производства к области политических баталий [65]?
Так где же нам сегодня, в эпоху якобы «исчезающего рабочего класса» искать «пролетария»? Чтобы адекватно подойти к этому вопросу, нужно, по–видимому, сконцентрироваться на том, как марксово понятие пролетария переворачивает классическую гегелевскую диалектику Господина и Раба. В борьбе между (будущим) Господином и Рабом, как пишет в «Феноменологии духа» Гегель, Господин готов поставить на карту все, вплоть до своей собственной жизни и, таким образом, он обретает свободу в то время как Раб не столько прямо привязан к Господину, сколько изначально — к объективному окружающему его материальному миру к корням окружения, в конечном счете, к своей жизни как таковой; он не готов рисковать и потому уступает свою суверенность Господину. Хорошо известный советский шпион Александр Кожев рассматривает эту гегелевскую диалектику Господина и Раба как прообраз марксовской классовой борьбы; и он прав в том случае, если учесть, что Маркс перевернул эти понятия. В пролетарской классовой борьбе именно пролетарий занимает место гегелевского Господина: он готов рисковать всем, поскольку он чистый субъект, лишенный всех корней, поскольку как говорили в былые времена, ему «нечего терять, кроме твоих цепей». Капиталисту же, напротив, есть что терять (а именно капитал), и он, таким образом, оказывается настоящим Рабом, привязанным к своим владениям, по определению никогда не способным поставить на карту все, даже если он самый подвижный новатор, прославляемый сегодня средствами массовой информации. (Важно помнить, что в оппозиции пролетария и капиталиста, для Маркса, как раз пролетарий — субъект, символизирующий нематериальную субъективность, не имеющий ничего общего с объектом, подчиненным капиталисту в роли субъекта.) Это и дает нам ключ к пониманию того, где нам искать сегодняшнего пролетария: там, где субъект низведен до лишенного корней существования, где он лишен всех материальных уз.
8. МУСУЛЬМАНИН
В понятии социального антагонизма межсоциальные различия (тема конкретного общественного анализа) частично совпадают с различиями между социальным как таковым и его другим. Это совпадение становится особенно заметным во времена расцвета сталинизма, когда враг обозначается как не–человек, как отброс человечества: борьба партии Сталина с врагом становится борьбой собственно человека с нечеловеческими отбросами. То же самое, но на другом уровне имеет место в случае нацистского антисемитизма, при котором евреям отказывают в праве называться людьми. Этот радикальный уровень противопоставления не должен послужить для нас соблазном оставить конкретный социальный анализ Холокоста. Проблема академической холокост–индустрии как раз–таки и заключается в вознесении Холокоста до уровня метафизического дьявольского Зла, иррационального, аполитичного, непостижимого, доступного лишь сквозь уважительное молчание. Холокост — это та точка предельного травматизма, в которой объективирующееся историческое знание распадается, та точка, в которой приходится признавать бесполезность этого знания перед лицом отдельно взятого очевидца, и это еще и та точка, в которой сам очевидец осознает, что у него не хватает слов, что единственное, чем он может поделиться, — это молчание. С Холокостом обращаются как с тайной, центром тьмы нашей цивилизации. Его загадка заранее отрицает все (проясняющие) ответы, она отказывает знанию и описанию, она вне коммуникации, вне историзации, ее невозможно объяснить, визуализировать, представить, передать, ведь она отмечает Пустоту, черную дыру, конец, взрыв, направленный внутрь (нарративной) вселенной. Соответственно, любая попытка поместить Холокост в его контекст, политизировать его равняется антисемитскому отказу признавать его уникальность. Вот одна из распространенных версий Освобождения от Холокоста:
Великий хасидский учитель Рабби из Коцка обычно говорил: «Есть истины. которые можно выразить в словах, и есть более глубокие истины, которые можно передать лишь молчанием. Но есть еще и такие истины, которые не выразить ни в словах, ни в молчании». И все же их необходимо выразить в словах. Перед нами дилемма, с которой столкнулся каждый, кто оказался в концентрационном лагере: как можно передать всю тяжесть, весь размах события, не поддающегося описанию в языке? [66]
Но разве слова эти не указывают на лакановскую встречу с реальным? Нигде необходимость сопротивления тому, что Лакан назвал «искушением жертвоприношением», не стоит более остро, чем в связи с Холокостом. Жертвоприношение не просто нацелено на некий выгодный обмен с тем Другим, которому приносится жертва: его более фундаментальная цель — удостовериться в том, что где–то там есть некий Другой, который может ответить (или не ответить) на сопутствующие жертвоприношению мольбы. Даже если Другой и не исполняет мои желания, то, по крайней мере, я могу удостовериться в том, что он существует, в том, что, возможно, в следующий раз он мне ответит: окружающий меня мир, со всеми бедами, что могут свалиться на мою голову, представляет собой не просто бессмысленную, слепую машинерию, но своеобразного партнера по возможному диалогу, в котором даже бедствие можно понять как осмысленный ответ, но не как продукт царства слепого случая. Именно на таком фоне следует понимать отчаянную потребность историков Холокоста выявлять его конкретную причину, устанавливать его значение. Когда они ищут «перверсивную» патологию в сексуальности Гитлера, то на самом деле боятся, что найдут ничто, т. е. что в личной, интимной жизни Гитлер был, как и все остальные. В этом случае его чудовищные преступления кажутся еще более отвратительными и жуткими. Когда исследователи отчаянно ищут тайное значение Холокоста, то им лучше найти какое угодно объяснение (даже еретическое утверждение, что, мол, сам Бог от дьявола), чем признать бесцельность этнической катастрофы, признать, что она — результат слепого случая. «3апрет» Клода Ланцмана на вопрошание о причинах Холокоста зачастую истолковывается превратно. На самом деле нет противоречия между запретом на вопрос «почему» и утверждением, что Холокост не представляет собой загадку без отгадки. Смысл запрета Ланцмана лежит не в плоскости теологии. Он не равен, скажем, религиозному запрещению попыток проникнуть в тайну происхождения жизни или зачатия; этот запрет принадлежит парадоксам запрета на невозможное из разряда «ты не должен, потому что не можешь!» Когда, к примеру, католики говорят, что нельзя заниматься биогенетическими разработками, потому что человек — не просто результат взаимодействия генов с окружающей средой, то за этими словами скрывается страх, что если довести эти разработки до конца, то можно достичь невозможного, т. е. свести духовную жизнь к биологическому механизму. Ланцман, напротив, не запрещает изучение Холокоста, потому что Холокост — тайна, которую лучше оставить во тьме. Дело в том, что нет никакой тайны Холокоста, на которую можно пролить свет, нет загадки, которую нужно решать. Следует лишь добавить, что после того, как мы исследуем все исторические и прочие обстоятельства Холокоста, останется лишь пучина самого этого деяния, глубина свободно принятого решения во всей его чудовищности.