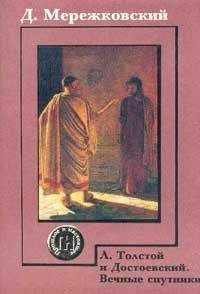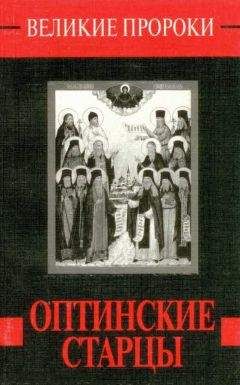Дмитрий Мережковский - Религия
Наполеон — из беседы его с Балашевым это ясно прежде всего — не умен; он ведет себя, как человек, не имеющий понятия об искусстве политики, самообладании, скромности, лжи, и об еще высшем искусстве обходиться без политики, быть правдивым, быть искренним, предаваться всем порывам чувств, но, конечно, лишь тогда и постольку, когда и поскольку это выгодно. Не потому Наполеон здесь кажется неумным, что предается до самозабвения «беспричинному гневу» — иногда страсть в политике бывает полезнее, чем бесстрастие — а потому, что гнев его бесцелен, что он ослабляет его, делает не страшным, а почти смешным, жалким в глазах Балашева — следовательно, и в глазах императора Александра.
Далее, во время и после обеда, за кофеем, Наполеон обнаруживает отсутствие уже не только высших, но и самых низших умственных способностей, отсутствие первобытного инстинкта животной хитрости, свойственного даже в большей мере глупым, нежели умным людям, и порождаемого в них чувством самосохранения, которое, с точки зрения самого Л. Толстого, именно у Наполеона, при его опасном положении и безмерном себялюбии, должно быть в высшей степени развито. С беспомощною откровенностью, с простосердечною болтливостью, обнажает он перед послом русского императора все свои слабости, так сказать, выдает ему себя головой. Убежденный, что «Балашев после его обеда сделался его другом и обожателем», он говорит ему вещи, оскорбительные для русского государя и России, «не сомневаясь в том», что слова его «не могут не быть приятными его собеседнику, так как они доказывают превосходство его, Наполеона, над Александром». — «Балашев наклонил голову, видом своим показывая, что он желал бы откланяться, и слушает только потому, что он не может не слушать того, что ему говорят. Наполеон не замечал этого выражения; он обращался к Балашеву, не как к послу своего врага, а как к человеку, который теперь вполне предан ему и должен радоваться унижению своего бывшего господина». — «Ну-с, что ж вы ничего не говорите, обожатель и придворный императора Александра? — сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим-нибудь придворным и обожателем, кроме его, Наполеона».
В сущности, этот образ неумного, даже прямо глупого Наполеона так и остается неизменным до конца романа. В четвертой части, уже после Бородинского сражения, в самую роковую, решающую минуту своей жизни перед отступлением, когда он принужден просить мира, — «с своею уверенностью в том, что не то хорошо, что хорошо, а то, что ему пришло в голову, написал он Кутузову слова, первые пришедшие ему в голову и не имеющие никакого смысла», не имеющие даже, по мнению Л. Толстого, никакой политической цели. И надо помнить, что за этою глупостью ровно ничего не скрывается — никакой ослепляющей страсти, никакой глубины зла: он просто и, так сказать, невинно, первобытно глуп. О величайшей культурной идее, из которой, по выражению Достоевского, «составилась цивилизация европейского человечества, для которой одной оно и живет», — об идее «всемирного единения» тут уж, конечно, не может быть речи. Ведь Л. Толстой отказывает Наполеону даже в том, в чем Великий Инквизитор Достоевского не отказывает Тимуру и Чингис-хану. Самая возможность вопроса о Наполеоне, как о возобновителе того здания, о котором Ницше говорит, что никогда ни прежде, ни после «не строили люди в подобных размерах sub specie aeterni», — ни одним словом не упоминается в «Войне и мире». Ни одной черты трагической, возбуждающей жалость или ужас, — в судьбе и в личности толстовского Наполеона: весь он — маленький, плоский, пошлый, комический или должен бы, по замыслу художника, быть комическим. Ходульная напыщенность или приторная, во вкусе бульварных французских мелодрам, чувствительность — вместо чувства. Перед вступлением в Москву мечтает он о том, как облагодетельствует этот город. «Тот тон великодушия, в котором он намерен был действовать в Москве, увлек его самого». Между прочим, узнав, что в Москве много, богоугодных заведений, «в воображении своем решил он, что все эти заведения будут осыпаны его милостями. Он думал что, как в Африке надо было сидеть в бурнусе в мечети, так в Москве надо было быть милостивым, как цари. И чтобы окончательно тронуть сердца русских, он, как и каждый француз — (Л. Толстой забывает что Наполеон, в самой тайной, бессознательной глубине существа своего, вовсе не современный француз, а корсиканец, то есть итальянец XV–XVI века) — как и каждый француз, не могущий себе вообразить ничего чувствительного без воспоминания о ma chère, ma tendre, ma pauvre mère,[3] он решил, что на всех этих заведениях он велит написать большими буквами: „Учреждение, посвященное моей милой матери“. — Нет, просто: „Дом моей матери“, решил он сам с собою».
Несложность и грубость Наполеона таковы, что проницательности пьяного казака Лаврушки хватает на то, чтобы оценить и разгадать его до конца. «Лаврушка, напившийся пьяным и оставивший барина без обеда, был высечен накануне и отправлен в деревню за курами, где он увлекся мародерством и был взят в плен французами. Лаврушка был один из тех грубых, наглых лакеев, видавших всякие виды, которые считают долгом все делать с подлостью и хитростью, которые готовы сослужить всякую службу своему барину, и которые хитро угадывают барские дурные мысли, в особенности тщеславие и мелочность. — Попав в общество Наполеона, которого личность он очень хорошо и легко признал, Лаврушка нисколько не смутился и только старался от всей души заслужить новым господам. — Он очень хорошо знал, что это сам Наполеон, и присутствие Наполеона не могло смутить его больше, чем присутствие Ростова или вахмистра с розгами, потому что ничего не мог его лишить ни вахмистр, ни Наполеон». Лакейской душе Лаврушки оказывается вполне по плечу не менее лакейская душа Наполеона: рыбак рыбака чует издалека. Бессознательный русский нигилист Лаврушка чувствует даже, благодаря своей внутренней свободе и презрению к людям, некоторое нравственное и умственное превосходство над Наполеоном: в разговоре с ним о войне и политике он вышучивает, водит за нос и, прикидываясь дураком, дурачит того, кем все европейские умники одурачены.
Суждение о Наполеоне лакея Лаврушки и барина Николая Ростова совпадает с окончательным приговором самого Л. Толстого в приложенных к роману «Статьях о кампании 12-го года», где художник подводит итоги всемирно-историческим и философским взглядам, которыми, будто бы, руководствовался при создании «Войны и мира»: «Все действия его (Наполеона), — говорит Л. Толстой, — очевидно жалки и гадки». — Он совершает только «счастливые преступления». — «Нет поступка, нет злодеяния или мелочного обмана, который бы он совершил, и который тотчас же в устах его окружающих не отразился бы в форме великого деяния». — У него «блестящая и самоуверенная ограниченность». — «Ребяческая дерзость и самоуверенность приобретают ему великую славу». — У него «глупость и подлость, не имеющие примеров» — «последняя степень подлости, которой учится стыдиться всякий ребенок». — Он — «разбойник вне закона».
Так вот что скрывалось за этою волнующею, грозною неподвижностью «маленького человека с белыми руками», с «глазами, устремленными вдаль» — совершенная подлость, совершенная глупость.
Нет ли, однако, противоречия в соединении этих двух признаков, которыми Л. Толстой не только в объяснительной статье, но отчасти и в самом романе определяет личность Наполеона? Казалось бы, одно из двух: или совершенная глупость, или совершенная подлость. В самом деле, не предполагает ли известная степень злой воли — известной степени ума, по крайней мере, сообразительности, ловкости, той животной хитрости, которою обладает, например, и такой негодяй, как Лаврушка? И наоборот, известная степень глупости не предполагает ли своего рода невменяемости? Если Наполеон глуп настолько, что правой руки не умеет отличить от левой, как и представляется Л. Толстому, то может ли быть речь о каких-либо «злодеяниях»?
Но в том-то и дело, что Л. Толстой, в сущности, вовсе не определяет, не разлагает личности Наполеона, а только уничтожает ее: совершенная «подлость» — молот, совершенная «глупость» — наковальня; и личность Наполеона расплющивается между этим молотом и наковальнею. «Это уж не литература, а исправительное наказание! — тут нарочно собраны все черты для анти-героя», — восклицает одно из действующих лиц Достоевского. Да, именно нарочно, искусственно собраны в этом Наполеоне все черты «анти-героя». Л. Толстой не исследует, не изображает, а просто раздевает и по голому телу, которое оказывается вовсе не «бронзою», по живому человеческому телу, «человеческому мясу», подвергает «исправительному наказанию» этого «полубога»: «Смотрите, чему вы верили! Вот он!» И, в конце концов, остается от Наполеона не маленький, но все-таки возможный, реальный человек, не гадкое и жалкое, но все-таки живое лицо, а пустота, ничто, какое-то серое, мутное, расплывающееся пятно: Л. Толстой раздавил Наполеона, как насекомое, так что от него — «только мокренько».