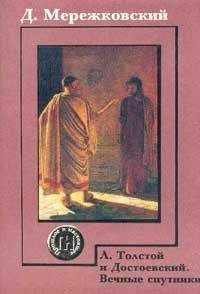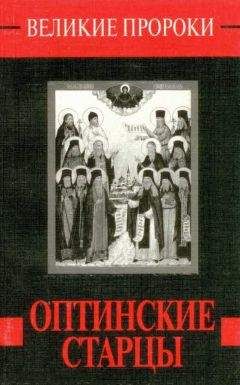Дмитрий Мережковский - Религия
Наполеон — Антихрист. И патриарх Никон, боровшийся с царем Алексеем, подобно римским папам, из-за мирской власти церкви, тоже — Антихрист. И Петр I, который, продолжая дело Московских царей и сознавая себя «наследником древних Кесарей», присвоил себе древнеримский титул «Императора», который так же, как Бонапарте, по следам Александра Великого стремился в Индию и мог бы повторить по поводу духовного регламента слова Наполеона: «Посредством светского я буду управлять духовным», — для самой чуткой, религиозной части русского народа был Антихристом. Что значит это, ни у одного из других народов с такою силою никогда не проявлявшееся, кажущееся столь нереальным, по своим источникам, и, однако, столь реальное, по своим историческим действиям, ожидание русским народом Антихриста, ожидание конца мира, Второго Пришествия? Что значит эта напряженная, как бы напуганная чуткость, эта вековечная и ежеминутная готовность на борьбу со «зверем, выходящим из бездны», с тем, кто сказал Христу: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее»? Есть ли это только «тьма непросвещения», признак средневекового варварства, из которого и доныне Россия не вышла, или же нечто большее, более тонкое, сложное, загадочное, какая-то еще младенческая, недодуманная, но уже могущественная мысль — первые фантастические тени какого-то чуть брезжущего утра?
Во всяком случае, Наполеону оказана была в России чрезмерная честь, такая, какой и в Европе ему никто не оказывал, этим названием «антихрист». Но вместе с тем, может быть, именно здесь-то и почувствовал русский народ последнее величие в замыслах того, кто и Пушкину недаром являлся, как
Посланник Провидения,
Свершитель роковой безвестного
веления, —
почувствовал неизбежную связь наполеоновской всемирной монархии, «всемирного единения» — с религией. Да, что-то было здесь понято, угадано Россией в этом «сумасшедшем» («L’Empereur est fou, complètement fou», — говорил Дёкрэ Мармону), чего и в Европе никто не понял; как будто подслушана самая тайная, дерзкая, безумная мечта его: «Я создавал религию».
Наполеон не «раздавил» России: он ею сам был раздавлен, и вместе с тем, по выражению Пушкина, —
Он русскому народу
Высокий жребий указал.
Удар Петра разбудил лишь тело, удар Наполеона — душу России. И ответом на страшный удар было не только великое всемирно-историческое действие Двенадцатого года, но и великое, всемирно-историческое созерцание — современная русская литература от Пушкина до Л. Толстого. Недаром же, именно в это время, то есть после Двенадцатого года, зародилась муза Пушкина. И молодого Пушкина и Лермонтова — первые, еще неясные, отроческие думы русской поэзии привлекал образ Наполеона.
Этот же самый образ сделался средоточием и тех двух великих произведений, которые окончательно дали русской литературе всемирное значение: Наполеон, как исторический, реальный образ в «Войне и мире» Л. Толстого, как воплощение нравственной идеи, как предмет психологического исследования об отношении героя к добру и злу — в «Преступлении и наказании» Достоевского.
На вопрос, поставленный русскому народу западноевропейскою культурою в лице Наполеона, Россия ответила дважды: войной Двенадцатого года — во всемирно-историческом действии — и «Войной и миром», «Преступлением и наказанием» — во всемирно-историческом созерцании.
Глубокое и верное духу народа чутье указало Л. Толстому на изображение борьбы России с Наполеоном, как на самую великую задачу для современного русского художника. Трудность ее соответствовала величию, главным образом, потому, что трудность эта была двойная — требовала взаимодействия двух равных и противоположных сил, из которых каждая в отдельности встречается редко, — двух направлений философского и художественного созерцания: предстояло изобразить не только океан стихии народной во всей широте его, до последних горизонтов, но и самую уединенную, обособленную вершину, острие человеческой личности, сознание и волю героя, во всей высоте их, до последней высшей точки, до обожествленного я, ибо в изображаемой трагедии было два главных действующих лица, два борющихся противника — Россия и Наполеон. И только из совершенного созерцания этих обоих действующих лиц могло проистекать совершенное созерцание самого трагического действия; только по силе удара можно было судить о силе сопротивления, по размаху молота, уже занесенного, чтобы «раздавить Россию», — о твердости камня, о который страшный молот разбился вдребезги, по величию Наполеона — о величии России. Одно нельзя было понять, нельзя было изобразить без другого.
И вместе с тем за внешнею, реальною, историческою картиной было скрыто здесь нечто более глубокое, внутреннее, таинственное и все-таки в высшей степени реальное — если не для настоящего, то для будущего реальное: в этой, по-видимому, столь безумной, фантастической и, однако, неизбежной мысли Наполеона о создании новой религии, о завершении всемирной культуры новым религиозным откровением, «Алкораном», с одной стороны, — в легенде русского народа о Наполеоне «Антихристе» — с другой, сказалась не только стихийная, но и культурная борьба Востока с Западом, «произошло столкновение двух величайших идей из всех, какие когда-либо существовали на Земле», по преимуществу — восточной, хотя и на Западе проявлявшейся идеи «всемирного единения во Христе» или только в том, что доныне людям открылось в первом явлении Христа, Богочеловеке — с идеей, по преимуществу западной, хотя опять-таки и на Востоке проявлявшейся — идеей всемирного единения в Кесаре, в Человекобоге, в том, что доныне людям открывалось, как начало, противоположное Христу, и последний неожиданный смысл чего, может быть, откроется только во втором явлении Христа.
Да, великая задача предстояла Л. Толстому в «Войне и мире», достойная такого художника, как он, — можно сказать даже, что в современной русской литературе не было большей задачи.
Как же он исполнил ее? И прежде всего, как исполнил одну из ее половин? Каково у него одно из двух главных действующих лиц этой трагедии — Наполеон?
«Быстро отворились обе половинки двери, все затихло, и из кабинета зазвучали другие твердые, решительные шаги: это был Наполеон. Он только что окончил свой туалет для верховой езды. Он был в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на круглый живот, в белых лосинах, обтягивавших жирные ляжки коротких ног, и в ботфортах. Короткие волосы его очевидно только что были причесаны, но одна прядь волос спускалась книзу над серединой широкого лба. Белая, пухлая шея его резко выступала из-за черного воротника мундира: от него пахло одеколоном. На моложавом, полном лице его с выступающим подбородком было выражение милостивого и величественного императорского приветствия. — Он вошел, быстро подрагивая на каждом шагу и откинув несколько назад голову. Вся его потолстевшая короткая фигура с широкими толстыми плечами и невольно выставленным вперед животом и грудью имела тот представительный, осанистый вид, который имеют в холе живущие сорокалетние люди».
В сущности, это явление Наполеона — первое, хотя только в предпоследней части «Войны и мира»: раньше мелькал он в тумане исторической дали, в пороховом дыму сражений, как «маленький человек с белыми руками». Зато здесь, как и всегда в подобных случаях у Л. Толстого, мы видим, с поразительною ясностью, с необыкновенным, даже как будто несколько пресыщающим обилием чувственных подробностей, внешний облик, главным образом, тело, именно живое тело, но не живое лицо Наполеона — а если и лицо, то как часть, как продолжение, а не одухотворяющее завершение тела, не выражение личности. Внешнему, так сказать, анатомическому строению тела — «выступающий круглый живот, короткие ноги, жирные ляжки, широкие толстые плечи» — соответствует и внешнее анатомическое строение лица — выступающий подбородок, широкий лоб, — и очень искусная черточка, которая закрепляет связь этого образа с исторически-приглядевшимся портретом Наполеона — отдельная «прядь волос», которая спускается «по средине лба»! Да, все внешнее наглядно, ясно, точно, но, вместо утреннего выражения — только опять-таки внешнее, условное, застывшее «императорское приветствие».
Не довольствуясь тем, что показал нам тело Наполеона в одежде, Л. Толстой раздевает и показывает его голым. Утром, накануне Бородина, когда император оканчивает свой туалет, и один из двух камердинеров растирает его щеткою, а другой брызгает одеколоном, мы видим опять «выхоленное тело императора», «толстую спину», «обросшую жирную грудь», «жирные плечи», как будто каждую выпуклость мускулов и мышц этого голого тела, словно опять-таки в превосходнейших анатомических рисунках.