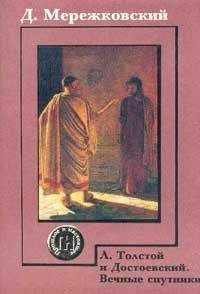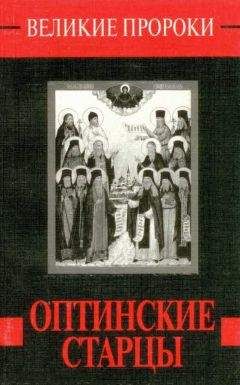Дмитрий Мережковский - Религия
В сущности, это явление Наполеона — первое, хотя только в предпоследней части «Войны и мира»: раньше мелькал он в тумане исторической дали, в пороховом дыму сражений, как «маленький человек с белыми руками». Зато здесь, как и всегда в подобных случаях у Л. Толстого, мы видим, с поразительною ясностью, с необыкновенным, даже как будто несколько пресыщающим обилием чувственных подробностей, внешний облик, главным образом, тело, именно живое тело, но не живое лицо Наполеона — а если и лицо, то как часть, как продолжение, а не одухотворяющее завершение тела, не выражение личности. Внешнему, так сказать, анатомическому строению тела — «выступающий круглый живот, короткие ноги, жирные ляжки, широкие толстые плечи» — соответствует и внешнее анатомическое строение лица — выступающий подбородок, широкий лоб, — и очень искусная черточка, которая закрепляет связь этого образа с исторически-приглядевшимся портретом Наполеона — отдельная «прядь волос», которая спускается «по средине лба»! Да, все внешнее наглядно, ясно, точно, но, вместо утреннего выражения — только опять-таки внешнее, условное, застывшее «императорское приветствие».
Не довольствуясь тем, что показал нам тело Наполеона в одежде, Л. Толстой раздевает и показывает его голым. Утром, накануне Бородина, когда император оканчивает свой туалет, и один из двух камердинеров растирает его щеткою, а другой брызгает одеколоном, мы видим опять «выхоленное тело императора», «толстую спину», «обросшую жирную грудь», «жирные плечи», как будто каждую выпуклость мускулов и мышц этого голого тела, словно опять-таки в превосходнейших анатомических рисунках.
Далее, как всегда у Л. Толстого, черточка прибавляется к черточке, подробность к подробности, соединяясь в один живой, животный образ. Уже и здесь нам чувствуется какое-то особое, хотя еще едва уловимое, направление, наклонение этих подробностей. Мы еще не знаем, но угадываем, что они ведут куда-то. Не намекает ли, например, «постоянный запах одеколона» на неизменную, даже во всех трагических случайностях войны, заботливость императора о своем «выхоленном теле»? «Кавалерийский глаз Ростова» заметил, что Наполеон «дурно и не твердо сидит на лошади». Недостаток в верховой езде, общая ленивость и неподвижная грузность тела, склонность к ожирению сорокалетнего человека, желтый цвет опухшего лица не напоминают ли о сидячей, нездоровой, телесно-праздной, исключительно умственной жизни, так же, как знаменитое «дрожание левой икры», по поводу которого Наполеон говорил впоследствии: «Дрожание моей левой икры есть великий признак!» — о несдержанности, неспособности владеть собою, своими чувствами, даже своими нервами и, вместе с тем, о привычке, свойственной избалованным людям, видеть в слабостях своих силу? Недаром так пристально следит художник и за «маленькой, красивой, белой ручкой», в которой Бонапарте держит судьбы мира, и которой посылает на смерть сотни тысяч людей, как «мясо для пушек». Особое значение имеет и насморк Наполеона. «На этих людях не тело, а бронза», — говорит Раскольников о Наполеоне. Но мы уже видели голое тело героя, такое же тело, как у всех людей, такое же «человеческое мясо», которое только у других считает он «мясом для пушек». И вот опять этот, в самую торжественную минуту жизни его, накануне Бородина, «от вечерней сырости усилившийся насморк», эта крошечная реалистическая подробность о том, как «посланник Провидения», «наследник древних Кесарей», «сверхчеловек» «громко сморкается», — не напоминает ли, что и «на этих людях» все-таки не «бронза», а тело, «тело смерти», для которого достаточно насморка, чтобы почувствовать в себе «человеческое, слишком человеческое»?
Но как для нас ни ясен и ни жив, по крайней мере, животно жив этот внешний образ, он пока еще не связан с внутренним — не прозрачен. Мы видим только движения тела: в лице еще нет движения, нет выражения; как будто изваянное, «не шевелится оно ни одним мускулом»; мы узнаем об одном лишь изменении лица Наполеона от Аустерлица до Бородина: сначала оно «худое, бледное», потом «опухшее, желтое»: вот все, что с ним произошло в течение этой потрясающей всемирно-исторической трагедии. И здесь опять-таки маленькая, едва уловимая, но в высшей степени знаменательная черточка: при описании наружности других действующих лиц никогда не забывает Л. Толстой показать нам глаза их, выражение глаз; великий художник тела слишком хорошо знает, что именно в выражении глаз сосредоточена вся высшая животность и духовность тела: светом глаз освещается оно и только от этого света становится прозрачным. Как живы и памятны для нас «твердый» взор князя Андрея и Вронского, «кроткие лучистые глаза» княжны Марьи, тусклые рыбьи глаза Каренина, необыкновенно блестящие, полные «избытком чего-то», глаза Анны; лицо и тело Позднышева в «Крейцеровой сонате» почти совсем не различаемы в темноте вагона: он весь — «один взор лихорадочно горящих глаз». Но вот о глазах Наполеона как будто и забыл Л. Толстой. На всем протяжении «Войны и мира» упоминается лишь раз, и то мимоходом, с равнодушием, о том, что у Наполеона «большие глаза»: он взглянул в лицо Балашева «своими большими глазами». Но не только о выражении — даже о цвете этих «больших глаз» мы так ничего и не узнаем, так и не видим этого, по словам Пушкина, «чудного взора», который —
…живой, неуловимый,
То вдаль затерянный, то вдруг
неотразимый,
Как боевой перун, как молния, сверкал.
Не странно ли, в самом деле? Художник как будто нарочно не смотрит в глаза своему герою, как будто избегает взора его. На теле этом, столь живом, столь совершенно изваянном, лицо так и остается недоконченным — безглазым, безвзорным, как лица мраморных статуй со слепыми белыми зрачками.
Два раза в первых частях романа внешний облик Наполеона несколько оживляется внутреннею жизнью: первый раз во время Аустерлицкого сражения; и тут, впрочем, лицо и глаза неподвижны: «Лицо его не шевелилось ни одним мускулом: блестящие глаза были неподвижно устремлены на одно место. На холодном лице его был тот особый оттенок самоуверенного, заслуженного счастья, который бывает на лице влюбленного и счастливого мальчика». Второй раз — во время свидания Бонапарта с императором Александром I в Тильзите, Николая Ростова, «как неожиданность, поразило то, что Александр держал себя, как равный, с Бонапарте, и что Бонапарте совершенно свободно, будто эта близость с государем естественна и привычна ему, как равный, обращался с русским царем». «Малый ростом, Бонапарте снизу, прямо глядел Александру в глаза». Александр «приятно улыбается». На лице Наполеона «неприятно-притворная улыбка». «Он отчеканивает каждый слог, с возмутительным для Ростова спокойствием и уверенностью». Но, может быть, это — впечатление не самого Л. Толстого, а только Николая Ростова, человека не умного, не тонкого и к тому же слепо влюбленного в своего государя?
Как бы то ни было, для нас остается все еще загадкою «маленький человек с белыми руками»: что значит эта совершенная неподвижность его в самом средоточии всемирно-исторического водоворота и столкновения разрушительных сил, которые, в конце концов, мы это слишком чувствуем, от него идут и к нему возвращаются?
Именно эта не живая, но ведь и не мертвая же, неподвижность, это «холодное», точно каменное, лицо, которое «не шевелится ни одним мускулом», с глазами без выражения, без взора, устремленными вдаль, «на одно место», с глазами статуи — мало-помалу становятся волнующими, грозными. Мы следим за ними с тревогою и ждем, не вспыхнет ли искра жизни в этих глазах, не заглянут ли они нам прямо в глаза своим «чудным взором», «неотразимым», «сверкающим, как молния».
И вот, наконец, внутренний образ Наполеона впервые открывается перед нами — в третьей части «Войны и мира», в сцене с Балашевым.
Наполеон «кивнул головою», отвечая на низкий и почтительный поклон Балашева, и, подойдя к нему, тотчас же стал говорить, как человек, дорожащий всякою минутою своего времени и не снисходящий до того, чтобы приготавливать свои речи, а уверенный в том, что он всегда скажет хорошо и что нужно сказать. — «Здравствуйте, генерал! — сказал он. — Я получил письмо императора Александра, которое вы доставили, и очень рад вас видеть». Он взглянул в лицо Балашева своими большими глазами и тотчас же стал смотреть мимо него. — Очевидно было, что его не интересовала нисколько личность Балашева. Видно было, что только то, что происходило в его[1] душе, имело интерес для него. Все, что было вне его, не имело для него значения, потому что все в мире, как ему казалось, зависело только от его воли.[2] Когда Балашев упомянул о неизменном со стороны русского императора условии мира — отступлении французских войск за Неман, — «лицо Наполеона дрогнуло — (наконец-то дрогнуло!) — левая икра ноги начала мерно дрожать». Он стал возвышать голос, и дрожание икры «тем более усиливалось, чем более Наполеон возвышал голос». «И чем больше он говорил, тем менее он был в состоянии управлять своею речью. Вся цель его речи теперь уже очевидно была в том, чтобы только возвысить себя и оскорбить Александра, то есть, именно сделать то самое, чего он менее всего хотел при начале свидания». Балашев пытается ответить. «Но Наполеон не дал ему говорить. Ему, видно, нужно было говорить одному самому, и он продолжал говорить с тем красноречием и невоздержанием раздраженности, к которому так склонны балованные люди». Он говорил, «едва успевая словами поспевать за беспрестанно возникающими соображениями, показывающими ему его правоту и силу (что в его понятии было одно и то же)». Балашев с трудом следит за этим «фейерверком слов». Наполеон дает честное слово, что у него 530 тысяч человек по сю сторону Вислы, «забывая, что его честное слово никак не могло иметь значения». «Наполеон находился в том состоянии раздражения, в котором нужно говорить, говорить и говорить только для того, чтобы самому себе доказать свою справедливость. Балашеву становилось тяжело; он, как посол, боялся уронить свое достоинство и чувствовал необходимость возражать; но, как человек, он сжимался нравственно перед забытьем беспричинного гнева, в котором находился Наполеон. Он знал, что все слова, сказанные теперь Наполеоном, не имеют значения, что он сам, когда опомнится, устыдится их». «Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок, и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но только потому, что он делал это».