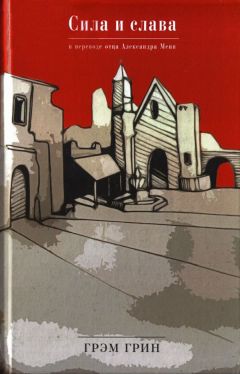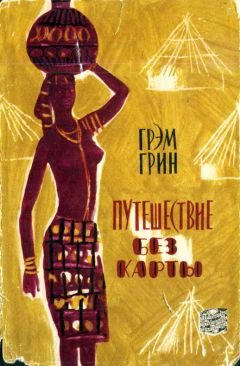Грэм Грин - Путешествия без карты
Возможно, марксисты сочтут этот фильм «своим», хотя в действительности он вряд ли имеет социалистическую направленность. В него не вложено никакого политического содержания: сначала полицейские избивают «маленького человека», а потом кормят сдобными булочками; и в изображении рабочих здесь нет и следа материнской теплоты и оптимизма в духе Митчисона: когда полицейские жестоки, пролетарии ведут себя как последние трусы и неизменно бросают «маленького человека» в беде. Мы не видим, чтобы он утруждал себя размышлениями о том, «как должен вести себя истинный социалист», он мечтает только о постоянной работе и приличном буржуазном доме. Чаплин, какими бы ни были его политические убеждения, — художник, а не пропагандист. Он не пытается разъяснять, он просто показывает, ярко и наглядно, безумный трагикомический хаос нашего бытия, но при этом его изображение бесчеловечных условий работы на фабрике вовсе не заставляет нас сделать вывод, будто «маленький человек» чувствовал бы себя уютнее на Днепрострое. Он изображает, он не предлагает политических решений.
«Маленький человек» галантно уступает место девушке в переполненном «черном вороне»; когда колокольчик нежным звоном зовет к обеду, «маленький человек» засовывает веточку сельдерея в рот старому механику, чья голова застряла между зубцами шестеренок; «маленький человек» преграждает перевернутыми стульями путь сыщикам, спасая свою девушку от преследования. У Чаплина, как у Конрада, есть «несколько простых идей» их можно было бы выразить почти теми же словами — «мужество, преданность, труд», которые он отстаивает в тех же безнадежных условиях бессмысленного страдания: «миста Курц умерла». Этих идей недостаточно для революционера, но их оказалось более чем достаточно для художника.
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
«Юноша встречает девушку: 1436 год» — так выражена суть фабулы «Ромео и Джульетты» в программке, где их печальная повесть пересказывается с некоторыми неточностями. Однако эта четвертая уже попытка экранизации шекспировской пьесы не так плоха. Сделанная без вдохновения, прямолинейная, отчасти банальная, она — с помощью Шекспира — не превратилась в откровенно плохой фильм. Похороны недавно скончавшегося продюсера Ирвинга Тальберга по своему размаху могли сравниться разве что с похоронами Рудольфо Валентино, но в этой картине нет ни единого намека на то, что он как продюсер обладал незаурядным талантом. Он создал большой фильм в том именно смысле, какой придают этому прилагательному в Голливуде: все сделано с характерной для «Метро–Голдвин» монументальностью. Келья брата Лоренцо похожа, как выразился один критик, на роскошную современную квартиру, с батареей реторт и пробирок, достойных какого‑нибудь уэллсовского супермена (какой там «кузовок плетеный» с «целебным зельем и травою сонной»), балкон столь высоко вознесен над землей, что по–настоящему Джульетта в разговоре с Ромео должна была бы орать в голос, как матрос, который, сидя на клотике, завидел на горизонте землю. А чего стоит помпезное начало, когда Монтекки и Капулетти всем семейством шествуют по улицам мимо картонных домов в церковь, причем, если судить по затихающим колоколам, явно с большим опозданием к заутрене. Или вид Вероны с высоты птичьего полета: и невооруженным глазом видно, что это игрушечный городок. Или громогласный жаворонок, возвещающий с воробьиным акцентом, что он не соловей. Или ночные небеса, где сверкают неправдоподобно ослепительные звезды из фольги, а освещение настолько не соответствует этому времени суток, что, хотя Джульетта и замечает: «Мое лицо спасает темнота, а то б я, знаешь, со стыда сгорела», ясно, что никакая веронская луна не смогла бы осветить ее лик так ярко.
К достоинствам фильма надо отнести то, что здесь больше шекспировского текста, чем мы по привычке могли бы ожидать, даже чуть больше, чем он написал. Недостает только его тонкого чувства драматического, благодаря которому в пьесе катастрофа нарастает постепенно, начинаясь с ленивой перебранки двух слуг, а не сразу со скандала в разгар пышного празднества.
Картина была удостоена «универсального сертификата», и можно было бы приятно удивиться тому, как спокойно наши киноцензоры пропустили множество довольно‑таки сомнительных пассажей — даже «похотливая стрелка часов» не нарушила спокойствия сих благодушных джентльменов. Существенный урон понесла Кормилица, правда, в большей степени от клоунады Эдны Мей Оливер, чем от цензуры. Эта роль и роль Меркуцио пострадали оттого, что актеры переигрывают. На немолодом лице Меркуцио, которого играет Джон Бэрримор, отпечатались следы грима тысячи бродвейских представлений. Бэзил Рэтбоун прекрасен в роли порочного Тибальта, а Лесли Хауард и Норма Ширер произносят стихи так, как их и нужно произносить, и выглядят вполне приемлемо, играя в традиционной романтически–мечтательной манере (мы все еще хотим видеть любовников, одержимых веронской лихорадкой, юных, страстных, безрассудных, как их враждующие кланы, «как огонь и порох, что, целуясь, превращаются в дым»).
Постановка дуэлей с кровопролитием производит неизгладимое впечатление — я имею в виду сцену смерти Меркуцио и Тибальта — и более убедительный, чем на сцене, финальный поединок Ромео с Парисом в склепе, но все же я еще менее чем когда‑либо убежден, что вообще существует эстетическая необходимость экранизировать Шекспира. Воздействие на зрителя даже лучших сцен проявляется в том, что внимание рассеивается, почти так же, как это происходило в старых постановках Три. Мы не в состоянии с равным вниманием одновременно смотреть и слушать. Но я не спорю, что тут, возможно, есть некий социальный смысл: любым способом, даже лишая его наполовину драматизма и на две трети поэзии, дайте Шекспиру стать массовым достоянием. В театре вас окружают богатые стареющие дамы, впервые с волнением знакомящиеся с содержанием пьесы из программки; знатоки жарким шепотом подготавливают своих перепуганных спутниц к неожиданной и печальной развязке, когда Ромео спускается в склеп Капулетти. Может быть, в этом и заключается общественная миссия кино — познакомить великий средний класс с пьесами Шекспира. Но поэзия… Удастся ли нам когда‑нибудь воссоздать на экране поэзию не только по крупицам (как в коротеньком эпизоде, когда Ромео уговаривает несчастного аптекаря дать ему яд, — это отлично сыграно и блестяще поставлено), если мы не откажемся от беспредельных возможностей, на которые нас обрекают огромные декорации и массовки? Даже в «Страстях Жанны д'Арк» Дрейера — помните: белые стены, длинная вереница лиц — удалось сохранить чуть больше поэзии, чем в этом великолепном коммерческом творении.
«МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
С той минуты, как пожилой комиссар с печальным и простоватым лицом, в потрепанном макинтоше и мягкой, видавшей виды шляпе садится в катер и плывет в закатных лучах под мостами Петрограда навстречу огням морского порта, «Мы из Кронштадта» полностью завладевают воображением, и будет просто непростительно, если Британский совет киноцензуры преградит этой необычной смеси поэзии и героики путь к успеху в Лондоне, который, наверное, смог бы сравниться с триумфом этого фильма в Париже и Нью–Йорке.
Это рассказ о событиях 1919 года, времени иностранной интервенции. До самого последнего кадра, когда матрос Балашов, стоя на краю скалы, откуда его товарищи были сброшены в море в объятия смерти, потрясает кулаком в сторону горизонта: «Ну, кто еще хочет взять Петроград?» — вся эта незатейливая история о соперничестве между матросами и рабочими отрядами выдержана в духе детского рассказа: отчаянные атаки и схватки не на жизнь, а на смерть, самоотверженные подвиги, удачные побеги — все это потрясающе поставлено режиссером. Вот солдат ползет по–пластунски, сжимая в руке гранату, навстречу громадине танка, напутавшего моряков; вот нестройный оркестр в последней траншее, отделяющей неприятеля от города, наигрывает веселый марш, призывающий раненых подняться для последнего и решительного боя; голос, шепчущий «Кронштадт, Кронштадт, Кронштадт» в телефонную трубку, и камера движется вдоль провода, под беспечное чириканье птиц, к оборванному концу, к взорванному пункту связи, к безмолвию.
Но что здесь действительно прекрасно, что делает эту картину просто замечательной, это не только героика, но и лиризм, поэтичность, напряженность действия. Вот чем должно быть поэтическое кино: не пьесы Шекспира, доведенные до среднего уровня, еще менее приемлемого, чем нынешние театральные постановки, но поэзия, воплощенная в образах, в которых жизнь проявляется ярче, чем в самом сюжете. На сцене это можно осуществить довольно грубо (с помощью слов), но киноискусство сродни романной прозе, а «Мы из Кронштадта» созданы соотечественниками Чехова и Тургенева. Разумеется, еще в ранних вещах Пудовкина мы видели прекрасные картины природы, но эти картины были жестко привязаны к революционной идее: мчащиеся облака, бури над азиатскими пустынями, ломающийся весенней порой балтийский лед — все это имело небольшую лирическую ценность, ведь такие кадры использовались метафорически для усиления однозначного смысла сюжета. С другой стороны, «Мы из Кронштадта», от первого до последнего кадра, буквально насыщены поэтическим смыслом (вспомним, как определял поэтическое Форд Мэдокс Форд: «не энергия аранжировки слов по мелодическому признаку, но энергия внушения»), подобно «Дворянскому гнезду», и, самое любопытное, несмотря на пушечные залпы, реющие знамена, рукопашные схватки, фильм пронизан такой же, как в романе, мягкой, задумчивой, меланхолической интонацией. Здесь есть сцена, исполненная юмора и высокой иронии, которая, кажется, могла быть целиком списана из романа какого‑нибудь великого классика. Зал и лестница в бывшем дворце на берегу Балтийского моря битком забиты солдатами и матросами, лежащими вповалку. На рассвете дверь на верхней площадке отворяется и показывается стайка мальчишек, тайком забравшихся во дворец. Они осторожно пробираются вниз, готовые, как мыши, при малейшем шорохе юркнуть в свое укрытие. Они ощупывают револьверы, винтовки, пулеметы, замирают, если кто‑то вдруг зашевелится во сне, и продолжают красться мимо спящих с одной только целью — прикоснуться к револьверной кобуре или стволу английской винтовки.